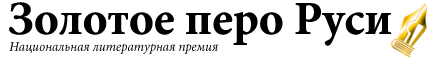В Москве прошел ретроспективный показ фильмов Андрея КОНЧАЛОВСКОГО, посвященный 45-летию творческой деятельности режиссера. На пресс-конференции режиссер говорил, что западное искусство идет в тупик, что в России нет и никогда не было демократии, что свободу нельзя дать — ее можно только взять, и прочие неполиткорректные вещи. Впрочем, обвинений в неполиткорректности Кончаловский не боится,
с его точки зрения, политкорректность — это большое зло.
Андрей Кончаловский входит в зал и непринужденно интересуется, на каком языке журналисты желают общаться. Ему отвечают, что тут все говорят и понимают по-русски.
— Говорят — точно. А вот понимают ли? — задает вопрос Андрей Сергеевич.
ЦЕПИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ
— Не знаю, в курсе ли вы, что я написал книгу с политологом Пастуховым, которая называется “На трибуне реакционера”. Наверное, не все еще читали ее, потому что иначе бы сказали: нас не интересуют ваши творческие планы, нас интересует ваши политические заявления. В книге мы пытались доказать, что сейчас в мире царствует диктатура политической корректности, хотя большинство постулатов не являются истиной. Все, особенно на Западе, скованы этой политической корректностью: “шаг вправо, шаг влево — расстрел”. И нет больше поводов для сомнений и еретических мыслей, нет места для еретиков. Это очень плохо, потому что еретики всегда двигали общество вперед. В этой книге я говорю об относительности даже таких понятий, как свобода, демократия и прочие, которые для всех абсолютная истина, хотя никто не знает, что это такое. Если я у вас спрошу, что такое свобода, то каждый из вас ответит абсолютно по-разному. “Борьба за свободу” — это говорят все, от Бен Ладена и до Буша. Все они борются за свободу, только за разную. Понятие свободы — очень относительное. И хорошо бы представлять себе, какого рода свобода может быть в России. Очень часто мы выбираем между желательным и нежелательным, хотя выбирать надо между возможным и невозможным.
— Когда в России будут соблюдаться законы?
— А что такое закон? Я думаю, что главная ошибка — считать, что ценности универсальны. Нет просто человека. Просто человек бывает только тогда, когда он труп. А пока он действует — он не просто человек. Он тунгус, кореец, испанец и так далее. Я вот задумался, что легче: построить гидроэлектростанцию или заставить человека писать не мимо туалета. Легче — гидроэлектростанцию. Потому что чтобы человек не писал мимо, нужны исторические предпосылки. Нужна система ценностей. Система ценностей в России не подразумевает следования закону.
В России законы никогда не исполнялись и не будут исполняться до тех пор, пока не изменится система ценностей. Все российские законы сделаны с учетом, что они будут нарушаться. Даже если можно ехать 70 км/ч, то напишут 40 км/ч. Это не плохо, это просто такая культура, и она не единственная, таких полно. Когда Россия будет жить по закону? Когда возникнут исторические предпосылки. Чтобы жить по закону — надо менять ментальность. В Европе это длилось 150–200 лет. В России сегодня при такой массовой системе пропаганды это можно сделать намного быстрее, только нужно об этом думать.
РЕАКЦИОНЕР О ДЕМОКРАТИИ
— Я считаю, что у нас очень хорошее правительство, потому что оно хоть что-то делает для народа. Оно вообще могло бы ничего не делать, и заставить его что-то делать народ не может. Когда бастуют шахтеры — недовольны учителя, когда бастуют учителя — недовольны шахтеры. У нас практически нет классового сознания, профсоюзов практически нет, и политической воли ни у какого класса, кроме крупных предпринимателей, нет.
Народу свободу дать нельзя. Он ее берет. А когда ему ее дают, да еще и пихают, а он отплевывается, что произошло в 90-е годы, то это катастрофа. Свободу нельзя дать, ее только берут. Права человека дать нельзя, их только берут. Если вы сегодня дадите права человека всему племени тутси, то от этого оно не будет чувствовать себя лучше. Просто права человека соблюдаются только там, где человек выполняет свои гражданские обязанности. Мы будем гораздо счастливее, если не будем мечтать, выбирать желательное — а потом оно не будет получаться, а будем выбирать возможное.
Есть великий русский народ, без шуток великий, у которого колоссальное будущее. Только не нужно требовать от него, чтобы он жил, как в Швейцарии. По швейцарским законам русский человек жить не в состоянии.
— За последние восемь лет в России ослабли демократические институты. То, что происходит сейчас, вам не внушает опасений?
— Один умный человек сказал: невозможно ужать пустоту. Это абсолютная иллюзия, что в России есть демократические институты. Я считаю, что в России нет демократии, не было и не может быть сегодня и даже завтра. Просто потому, что, как говорил великий марксист Плеханов, которого я очень уважаю, не было исторических предпосылок для возникновения демократических правовых институтов и, прежде всего, класса буржуазии. Говорят, в России возрождается класс буржуазии. Это иллюзия. В России возрождается класс потребителей. Ментальность буржуа — это не потребление, а воля к свободе и независимости от верховного властителя. Буржуазия — это первый класс, у которого было политическое самосознание. Они противопоставили себя герцогу и королю — отсюда начался парламент. У нас практически не было буржуазии, а наши купцы — почитайте “Ревизора” Гоголя — разбогатевшие крестьяне, которые давали взятки губернатору, городничему и валялись у них в ногах. Это не буржуазия. Один аргентинский философ сделал типологию крестьянского сознания. Скажем, отношение к труду у крестьянина — как к повинности. Отношение к деньгам — как к тому, что надо разделить. Успех соседа воспринимается как угроза собственной безопасности. И так далее. Самое главное препятствие в России для демократии — это русское крестьянское сознание.
Шопенгауэр сказал, что истина приходит к человеку в три стадии: первая — яростное сопротивление, вторая — высмеивание, третья — общеизвестная банальность. Но никогда нет момента, когда человечество бы сказало: эврика! Мы поняли истину! Сначала идет сопротивление, потом высмеивание, а потом “ну это всем известно”. Мы должны быть готовы к тому, что живем уже в будущем, просто еще об этом не знаем.
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КУЛЬТУРЫ
— Я еще год назад пытался проанализировать эволюцию современного искусства на Западе и тот тупик, в который оно скатывается. Хотя, естественно, пессимистов и до меня было достаточно, начиная со Шпенглера, который написал “Закат Европы”. Но факт, что, например, классическая музыка практически больше не пишется, симфонической формой практически никто не занимается. Вряд ли можно сказать, что новые оперы будут так же популярны, как оперы Верди в свое время. Я понимаю, что выступаю как абсолютный реакционер, но меня абсолютно не устраивают восторги по поводу Энди Уорхола (“Википедия”: Andy Warhol, псевдоним Андрея Варголы, 1928–1987. Культовая персона в истории поп-арт движения и современного искусства в целом. — Ю.Р.), потому что все знают, что это не искусство. Покупают не произведение искусства, а товар, который стоит колоссальных денег, хотя все знают, как эти произведения были сделаны — большого мастерства на это не надо.
— Вы говорите, что западное искусство зашло в тупик. А русское?
— Заявлять что-то очень сложно, потому что потом в газетах пишут: Кончаловский самоуверенно (или надменно, или еще как-то) утверждает… — и дальше идут иронические замечания. Утверждать что-то трудно, но если задуматься о русском искусстве, то можно понять одну вещь: мы находимся на периферии западной цивилизации. Просто потому, что христиане сюда пришли намного позже, чем в Европу. И во многом христианство определило развитие всей российской культуры. Российское искусство находится под влиянием западного больше, чем какого-то ни было еще, поэтому мы изо всех сил стараемся попасть туда же, куда движется западное. Кажется, Хаксли сказал, что “Запад движется к пропасти на роллс-ройсе, а русские в трамвае”. Но, собственно, движение в ту же сторону. Мы страшно увлечены постмодернизмом — это видно и по литературе, и по театру. Особенно — по театру и изобразительному искусству.
Кино переживает другой период просто потому, что оно — массовое искусство, на него надо тратить много денег. Поэтому там еще кое-как сохраняется рациональное зерно. Чтобы удовлетворить зрителя, нужно делать более-менее популярные вещи. Иногда они не отличаются хорошим вкусом, но все же не противоречат здравому смыслу.
— Какое место искусство занимает в системе общественно-политических отношений?
— Мне кажется, что высшая точка влияния уже прошла в силу того, что искусство — это штучный товар. Для того чтобы его воспринимать, нужна возможность созерцания. Раньше у человека было много времени, время не было деньгами. Для того чтобы послушать мессу Баха, нужно было ехать в карете три дня. Человек ехал через лес, в котором находились разбойники, они могли его ограбить, а кредитных карт не было, деньги везли с собой. Но когда человек приезжал в собор, где начинал звучать хор из двухсот человек и из двухсот музыкальных инструментов, то он испытывал экстаз. Он тратил шесть дней для того, чтобы послушать одно произведение, и ему не было жалко. Сегодня у человека нет времени на созерцание. Даже в церковь люди — и то забегают. А созерцать — это значит жертвовать временем. Сегодняшнее общество потребления отняло у западного человека самое главное: свободу распоряжаться своим временем. Отсюда возникло такое понятие, как поп-культура. Сегодняшний школьник, который приходит в музей Пушкина и видит там Энди Уорхола, а рядом — Микеланджело, уже отбрасывает слово “поп”, для него это становится культурой. И это страшное искажение. Потому что для него что Уорхол, что Микеланджело… Он уже не оценивает художественных достоинств, а оценивает рыночную стоимость, у него в голове абсолютно меняются ориентиры.
Мне кажется, что роль искусства катастрофически падает. Искусство уже является манипуляцией сознания для зарабатывания денег. Я даже придумал такую формулу: когда художник не имеет возможности заработать много денег, он вынужден заниматься настоящим искусством.
— Когда были лучше условия для создания произведений искусства?
— Для создания произведения искусства нужна не свобода, не деньги, а люди, способные это оценить. Во времена Римской империи был рабовладельческий строй, но создавались великие произведения. Во времена гитлеровской Германии были замечательные произведения Фейхтвангера. Во времена Сталина был Шолохов. Во времена инквизиции был Сервантес.
Во-первых, свобода — она внутри тебя. Во-вторых, надо говорить даже не о свободе, а о наличии людей, которые в состоянии воспринять. Но сегодня количество людей, способных воспринять произведение искусства, становится все меньше и меньше. Так же как все меньше и меньше людей понимают, что такое блины, а все больше понимают, что такое гамбургер.
— Почему именно сейчас вы обратились к теме глянца?
— Обычно, я на это отвечаю: а почему нет? Несколько лет назад я задумал сделать что-то про глянцевые журналы, потому что они становятся все тяжелее и толще. В России любое западное явление превращается в культурологически странное. Что такое глянец? Глянец — это форма продажи. Трусиков, помады, красивого бюста, надутых губ, вечной молодости, длинных ног и так далее. Но на Западе эта продажа реальна, потому что там есть средний класс, который может позволить себе это купить. У нас это может себе позволить купить только элита. Выпускается гигантское количество журналов, которые служат средством продажи какого-то товара для крохотного фрагмента общества, а остальные смотрят их, как “Санта-Барбару”. Они покупают “Дольче и Габбана” на Черкизовском рынке. В итоге мы берем форму, а содержание остается глубоко российским: “бентли” есть, но характер отношений между мужчиной и женщиной в этом “бентли” остается таким же, как и раньше.
ГОЛЛИВУДСКАЯ МЕЧТА
— Почему вы вернулись из Голливуда? Стали там непопулярным?
— Я избалован свободой, которая была при советской власти. При советской власти режиссер имел полную свободу снять кино. Эта картина потом могла быть запрещена, но она была снята. На Западе невозможно снять картину, если тебе не дали на это денег. В этом смысле я был избалован тем, что режиссер решает все. В Голливуде режиссер решает очень мало, если только он не Спилберг. И я знаю, что такой режиссер, как Ридли Скотт, один из крупнейших кинематографистов, вынужден был мириться с тем, что Спилберг ему запрещал. Например, Спилберг ему говорил в “Гладиаторе”: этой сцены не будет, и Ридли Скотт соглашался с этим. Поскольку я в Голливуде снимал авторское кино, не думаю, что был удобным режиссером для всех компаний. Я считался трудным режиссером. Сегодняшние режиссеры, которые пришли после моего поколения, как правило, приходят из рекламы. Эти режиссеры воспитаны не на самовыражении, а на принципе удовлетворения клиента. Я тоже снимал рекламу и прекрасно понимаю, что о художественном самовыражении там речи не идет. Речь идет о том, чтобы удовлетворить клиента. Поэтому философия такая: вам это не нравится? А вот если так? Нет? А если так? Да? Прекрасно! Поэтому в рекламе большие деньги и платят. Философия рекламного режиссера — удовлетворить клиента. Они наиболее удобны, поэтому в Голливуде режиссеры в основном приходят оттуда. Да и Ридли Скотт пришел оттуда, он просто выдающий талант во всех областях кинематографа. Поскольку я пришел не из рекламы, то вряд ли был удобным, поэтому, когда из России стало возможным уехать, я вернулся. Если бы отсюда нельзя было уехать, я бы здесь не жил.
Есть темы, которые меня интересуют, и их сделать можно только в России. Во-первых, они касаются России. “Курочка Ряба”, “Дом дураков”, “Глянец” — это все русские темы. “Ближний круг” был посвящен сталинизму, я просто снимал его с двумя американскими артистами, потому что в 90-м году снять картину за 15 млн. долларов с русскими артистами невозможно. Да и сейчас невозможно, поскольку мы не являемся частью англо-американской диаспоры. Только английские картины имеют шанс попасть на американский рынок. Все другие картины на американский рынок не попадают, включая шведское, итальянское, французское кино. Политика Америки довольно интересна: американский рынок закрыт для не англо говорящих картин.
Я прожил в Голливуде много, сделал там несколько картин, но это был другой период, Голливуд был другим. Коппола еще был на коне, мог делать полностью свои картины. Было эхо того времени, когда можно снять такие фильмы, как “Таксист” Мартина Скорсезе. Сейчас снимаются совсем другие картины. Сейчас Скорсезе снимает фильм типа “Авиатор”, который, мы прекрасно видим, очень далек от того социального кино 80-х годов. Это происходит потому, что сейчас другая публика — тинэйджеры 14-15 лет, их интересуют блокбастеры. Социальные проблемы ушли в сферу документального кино.
САЛФЕТКИ ОТ ПРЕССЫ
— Как вы относитесь к критике?
— Большинство критиков подозревают меня в неискренности, подозревают, что я делаю картины для бабла или начальству потрафить. Если картина имеет успех здесь — значит, потрафил Кремлю, если успех там — значит, Западу. И пишут: западник, или антисемит, или антирусский Кончаловский… Но я — человек внутренне свободный, я делаю картины потому, что мне хочется высказаться на ту или иную тему. Критика очень часто, к сожалению, коммерциализирована, в ней присутствует желтизна. Естественно, ничего приятного в ней нет, хотя последнее время я испытываю странное мазохистское удовлетворение. Если сильно, ожесточенно ругают, значит, что-то получается. Вот когда не замечают — это плохо. “Глянец”, например, я знаю, люди уже разбирают на цитаты: “Что нельзя продать — то не искусство”, “Умные люди глянец не читают — они его издают” и так далее.
А вообще, чем больше издательств — тем меньше профессионалов. Их же не накопишь сразу. Когда при советской власти было шесть газет, все критики были очень образованными, исключительно подкованными. Часть из них были абсолютные прокоммунисты и очень аргументировано ругали. Это были страшные люди, но ругали они аргументировано, а не просто: он пьет. Сейчас я вижу, что у всех критиков повторяется одна и та же фраза, взятая из Интернета. Все одно и то же.
Знаете, что меня пугает? Возникла, например, замечательная, удобная вещь — GPS-навигатор. Нажал кнопку, и прибор тебе показывает направление: налево-направо, налево-направо, прямо, приехал. Все. Больше города знать не надо. Надо просто иметь GPS-навигатор. То же самое происходит со знаниями. Больше в принципе ничего знать не надо — надо просто иметь Интернет. Сегодня человек знает несколько имен в культуре: Коэльо, Тарантино… Что вы читаете? Коэльо. Что такое Коэльо? Почему Коэльо? Никто ответить не может. Идет тот же самый поп-процесс: каких режиссеров надо смотреть, каких писателей читать, какой театр хороший, а какой не существует и так далее.
Идет банализация новизны — это процесс от той диареи информации, которая на вас вываливается в помойку Интернета. Я думаю, что вскоре привилегией богатых людей будет отсутствие необходимости идти в Интернет, возможность дышать чистым воздухом и находиться в тишине. Богатые люди будут читать хорошо переплетенные книги, сидеть в тишине, иногда слушать музыку и дышать чистым воздухом.
— Как относитесь к российским СМИ?
— Я прессу читаю в самолете. Знаете, там дают такие влажные салфетки для рук, так вот после того, как прочитаешь все газеты, хочется вытереть руки такой салфеткой. Коровин в свое время писал, что удивительная вещь у нас, у русских: если кого-то хвалят, то обязательно надо написать какую-то гадость. Например, Шаляпин — большой певец, но пьет. Я тоже с удовольствием читаю гадкие статьи про других. А потом ловлю себя на мысли, что точно так же читают гадкие статьи про меня. Но у меня тоже крестьянская ментальность, поскольку я русский человек.
ОТНОШЕНИЯ С БРАТОМ
— Интересны ваши взгляды на поступок вашего брата Михалкова, который написал открытое письмо Путину, чтобы тот остался на третий срок. И написал это от имени 60 тысяч представителей русской интеллигенции.
— Если бы это был другой режиссер, то вы вряд ли бы об этом спросили. Подсознательно все время пытаются сравнивать меня с моим братом. Я считаю, что каждый человек имеет право делать все, что хочет, и за это должен отвечать. Я тоже делаю, что хочу, и буду за это отвечать. Как я говорю: жизнь слишком коротка, чтобы не сделать все возможные ошибки, прежде чем она кончится. Это его право. Не знаю, прочитал ли он это письмо, прежде чем подписывал. Я никогда не подписываю никаких писем, считаю, что это бессмысленно. Я лучше напишу свое личное письмо, если считаю это нужным.
— Какого мнения о фильме Михалкова “12”?
— Опять брат! — Андрей Сергеевич хватается за голову.
— Подождите, это вопрос не о вашем брате. Не считаете ли вы, что это полемика с фильмом “Дом дураков”, где тоже выведены образы русских солдат, но в другом контексте?
— Я думаю, что Никита — большой режиссер, артист, у него многому можно научиться. У меня с ним полемика идет с юных лет, практически все его картины в какой-то степени полемизируют с моими. И тут, безусловно, тоже, потому что у нас разные концепции по поводу Чеченской войны. Да, я вижу в “12-ти” полемику, и не без удовольствия. Мне нравится, что он со мной полемизирует. У нас с ним разные точки зрения, мы в принципе разные. Он — артист, я — режиссер, — улыбается Кончаловский.
— Не было желания снять что-то вместе?
— Если бы я, не дай бог, не был бы в состоянии закончить какую-то свою картину, то закончить ее я бы попросил его.
— Чего ждать дальше?
— Планов у меня много. Я закончил мюзикл “Щелкунчик”, его премьера планируется на Рождество. Поспевают новые картины: хочу воссоздать в Метрополитен Опера в Нью-Йорке оперу на музыку Прокофьева “Война и мир”. Вообще, главный план — это выполнить все замыслы. А это значит иметь достаточно энергии, оставаться здоровым, чтобы все это сделать. Я хочу написать сейчас статью, которая будет называться “От черного квадрата к черной дыре”. Потому что это то, куда движется западное искусство.
— Расскажите о “Щелкунчике”.
— “Щелкунчик” — это большой мюзикл на английском языке с американскими артистами. На другом языке, на мой взгляд, мюзикл делать просто нельзя. Это мюзикл на музыку Чайковского, только его не танцуют, а поют. Слова написал Тим Райз, который успешно сотрудничает с Элтоном Джоном, “Роллинг Стоунз” и многими другими западными звездами. Собственно, мы пытались сделать коммерческую картину для всей семьи. Мы все перенесли в Вену, в 20-е годы. Только решили, что после Микки-Мауса мышей сложно делать неприятными, поэтому там не мыши, а крысы. Тем более что по-английски крыса — это такое нарицательное название: rat. Там много игры слов, включая ratification. Есть такой номер — ratification of the world — “окрысение мира”, — смеется Андрей Кончаловский.
Юлия Рыженкова
Публикация газета «Молодежь Московии» г. Москва 2008 г.