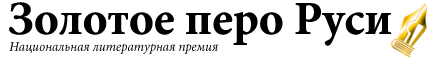ХАНЫМ
Светлой памяти моей бабушки
Имя моей бабушки – Ханым. ХАНым, в буквальном переводе на русский язык – «Госпожа моя». Бабушка и по жизни соответствовала своему имени. Поэтому в народе её называли Ханша, то есть Повелительница. Когда родился я, она повелела всем: «Это – мой Сын!» Перечить её воле, никто не смел. Тётки рассказывали: «Она заставляла нас поднимать тебя на руки и ждать, пока ты не разольёшься мочой. «Пейте!» — приказывала она, и мы её пили». А ещё они рассказывали: «Она относилась к тебе, как к Богу, все её утренние молитвы были посвящены не столько Аллаху, сколько тебе». Разумеется, это отношение не могло не сказаться на всей моей судьбе…
«Я люблю тебя, малыш,
в поле найденный голыш.
Чадо в поле? Это дивно.
Из телеги выпал, видно», —
напевала мне моя Госпожа эту древнюю убаюкивающую и балующую душу степную песнь. Это потом, поражаясь философскому подтексту, я перевёл её на русский язык.
— Жеребёнок мой, ты должен и будешь, жить и скакать на этой земле вольным аргамаком, — ежедневно, как молитву, шептала она мне на ухо эти слова. И… я поскакал…
Ежедневно я уходил на «подвиги». То скакал на соседском баране, то стрелял из рогатки в кур или кошек, конечно, не понимая, что это чужое добро. Её хозяева, возмущённые, всё время пытались наказать вероломного варвара. Но он, сын Богини, дерзил, швырял в них камнями и… бежал. До сих пор мне снится один и тот же сон: я убегаю, за мной раздаются топот ног, визг и крики.
… Бабушка всегда была в белом. Огромная белая чалма, огромные, как облако, балахоны её юбок и… запах гвоздики. В то время не было духов и прочих прелестей парфюмерии. Их заменяла гвоздика. Этот запах преследует меня всю жизнь. Юбка её и была моей крепостью, засаженной и пахнувшей гвоздикой. Я нырял под неё, не видел, но слышал.
— Только попробуйте тронуть жеребёнка моего, уничтожу всех, вырежу весь ваш скот! – слышал и чувствовал, как она махала своим посохом. Наступала пауза.
Госпожа моя, видимо, размышляла. Может быть, её чадо натворило что-то из ряда вон выходящее.
– Ладно, пошли в дом, попьём чая, — уже спокойно выговаривала она, и все безропотно шли за ней. Она шла, а я семенил ножками под её юбкой.
— Выходи, — говорила она голосом, в котором было сомнение. Я выплывал из-под облака, понурив голову и спрятав взгляд. Садился рядом со своей Повелительницей.
— Как здоровье ваших родичей, размножается ли скот, живы, здоровы ли дальние и ближние сородичи? Такие и подобные им ритуальные вопросы задавала моя бабка свом «гостям поневоле». Те, чтобы соблюсти этикет, вынуждены был умерять пыл и отвечать на эти пустые вопросы. Горячий чай охлаждал жар мщенья.
— Ну, что ещё натворил мой бесёнок, — задавала неизбежный и долгожданный вопрос моя бабка. Уже остуженные потерпевшие излагали просто факты. Оказывалось, ничего смертельного в моих «подвигах» не было.
— Э, оступается даже ханская дочь, — мудро и витиевато выговаривала бабка обычную казахскую пословицу.
Затем происходило чудо. Жалобщики начинали хвалить меня наперебой.
– Ханеке, а вы знаете, что ваш пострел лучше всех играет бабки.
— А как он скакал на моём баране, сразу видно, что растёт настоящий джигит.
— А как он бежит! Быстрее собаки.
— Камни он бросает, как меткий стрелок.
Превращался в героя. Начинал поднимать глаза, не веря тому, что эти слова относятся ко мне.
— Дай ему Бог здоровья и долгих лет, — говорили бабке на прощанье эти добрые люди.
— А теперь рассказывай ты, — повелевала моя Госпожа уже наедине. – Правду говорили эти люди?
– Да, это было, — не успев опомниться, мямлил я.
— А почему бежал?
— Да их же было много, Ба.
— Ну и что, разве один не может противостоять тысяче? – не унималась бабка. Надо было бежать, но временами останавливаться и метать камнями, чтобы неповадно было гонять героя. Толпа подобна своре собак, покажешь клыки, завизжат шакалы, — всё более и более возбуждалась она. Я чувствовал вину. Думал, что в её глазах я вовсе не герой, а просто трус. Снова отправлялся на новые «подвиги».
Всё время хотел драться. Даже посторонняя драка возбуждала меня. Не дай Бог в этой толпе встретить знакомое лицо, которое, тем более, терпит побои. Я не просто выручал его, а делал победителем. Просто так ударить, избить человека во все времена считалось признаком не дурного тона, а болезни. Драку надо было искать, провоцировать. Но это оказалось не искусством, а обычным житейским делом обычного человека. Она иногда всплывала неожиданно. Драться хотел не только я, но и другие. Избивал я, избивали меня. Весь побитый шёл домой и радовался, ибо побои эти были не побоями раба, а побоями свободного человека, героя.
— Рассказывай, сам учинил, или вынужден был? — Встречала с «фронта» мои синяки этим дежурным вопросам Госпожа моя.
— Да и они, и я…
Но моей Повелительнице надо было знать всё, до мельчайших подробностей. Рассказывать не хотелось, что было, то было. Но она меня вынуждала. Анализировать я тогда не умел, за меня это делала бабка. По результатам моих рассказов она то шлёпала меня по мягкому месту, то восхищённо его же целовала.
— Расскажи что-нибудь о своей жизни, — часто просил я её.
— Жеребёнок мой, судьба и жизнь моя не вместится в любой рассказ, хоть рассказывай их всю жизнь, — начинала, как всегда, она.
— Я дочь известнейшего человека. Мой отец воспитывал меня свободной, как я тебя. Не помню, ходить ли стала я раньше или сидеть на лошади. Но помню, как впервые взяла в руку камчу, а потом саблю. В то время, когда я родилась, отец мой имел шесть сыновей, но у него не было дочерей. Поэтому, наверное, когда родилась я, отец назвал меня Ханым, т.е. «Мой Повелитель». Среди своих братьев я росла, как мальчик, носила штаны, мне выбривали волосы на голове, я дралась не хуже любого мальчишки-забияки, на скачках всегда была первой.
Где-то в год отец подарил мне жеребёнка. Он был цвета солнца. Это была моя первая любовь. И его тоже. Он был сиротой, не помнил свою мать, ставшей жертвой волков. Я стала его матерью, сестрой, братом. Даже спать я ложилась с мыслью о нём, была уверена, — и он в этот момент думает обо мне. Первой мыслью после пробуждения была мысль о нём. Пробудившееся солнце всегда напоминало моего жеребёнка. И цветом, и радостью. Мы были одним целым, никогда, даже с людьми я не нашла такого взаимопонимания. Но конь не собака на цепи, он должен расти на воле. Поэтому подросшего жеребёнка ввели в какой-то косяк, я плакала при расставании, меня не могли успокоить. Ко всей тоске от отлучения с моим жеребёнком прибавилось горе от пропажи. До сих пор никто не знает, украден он был или его съели волки.
В тринадцать лет меня выдали замуж за твоего деда, я даже не знала, что такое замужество, не знала, что такое любовь, кроме любви к своему жеребёнку. Её я пронесла с собой всю свою бесконечную жизнь, вот почему и тебя называю жеребёнком.
Я родила десять детей. Все они были зеленоглазыми, каким зеленоглазым был мой прадед. Меня растили избалованной, свободолюбивой, даже в замужестве я не смирилась с потерей воли, та ругань с твоим дедом, которая тебе явно не нравится, есть песнь вольной птицы.
… Проклятая война… Мои сыновья уходили на фронт. Провожая каждого из них, я плакала. И плакала, хотя росла в смехе и веселье. Все они пропали, как мой жеребёнок. В аул приходили похоронки, с замиранием сердца ждала, что они адресованы именно мне. Погибшими были другие дети, мужья, сыновья. Но я не получала ни весточки, ни известия о гибели или пленении моих жеребят. Думала: наверное, это и есть рок, предписанный судьбой моего солнечного жеребёнка. Глаза мои высохли от плача, плача тревог и мук ожиданий.
Насупил черёд моего предпоследнего сына, твоего отца. Скажу, он был умнее всех моих жеребят. Отец твой работал учителем, был в ауле известным весельчаком и балагуром, умником и острословом, за все любили и восхищались им. Любой ценой я хотела оставить его в живых, предпринимала всё возможное для этого. Но разве сокола удержишь в гнезде? Не предупредив, он написал прошение на фронт, и пришёл вызов. И вот, что удивительно, я захотела плакать, но слёз не было. Он во время прощания рассказал какую-то байку, я была вынуждена не просто рассмеяться, а расхохотаться. Я хохотала до тех пор, пока не исчезла пыль от полуторки, увозившей моего жеребёнка в неизвестность, даль и страх. Осеклась, чувствуя одновременно — этот хохот вызван не только юмором, но и горем.
— Скажу тебе, жеребёнок мой, — произнесла Ба, — смех – и лекарство, и оберег, и панацея от всех бед. Я вынуждена думать, что именно он уберёг твоего отца. Сын вернулся, как чудо, как солнце, сияя, орденами и медалями, всё такой же смешной, радостный, хотя и был весь в шрамах и ранах. До того момента я особо не верила в Бога, а тут моя живая плоть появилась, как сам Бог. Три года я не плакала, а тут, будто разразилось дождём само небо. Но этот плач был гимном радости, справедливости, торжества жизни над смертью. Одновременно был возвращением, оживлением и возрождением моего солнечного жеребёнка.
— Извини, жеребёночек, я сейчас очень устала, завтра я расскажу, как ты появился на свет, как ты должен прожить на нём и много-много интересного, — говорила после очередного рассказа моя Богиня. Я замиранием и возбуждённо ждал «завтра».
— Война закончилась, отец твой вернулся живым, этим и обрадовал меня, но затем и огорчил, — много раз повторяла Ба. — День Победы наступил давно, но отец твой возвратился не сразу. Он рассказывал, что воевал с какими-то «лесными братьями».
«Братьями», — настороженно вопрошала я, будто он воевал со своими родными братьями. Он разъяснял, что так называют недобитых фашистских прихвостней, которые сами себя считали партизанами, восставшими против нас. Когда он рассказывал об отдельных эпизодах той войны, меня распирала гордость, чувство удовлетворённой мести по пропавшим без вести моим соколам, не услышавшим песен Победы.
— Сын мой, ты выпил кровь врага, убившего твоих братьев? – задавала я ему древний, но обычный вопрос.
— Мам, сейчас же уже нет этого обычая, — отвечал он мне.
— Ты смог убить столько врагов, сколько было твоих братьев? – не унималась я.
— Мам, но это была не та война, которую видела ты, когда соблюдался кодекс чести. Нынешние войны подленькие, стреляют в спину, из-за угла, даже не высунувшись из окопа. Никто не может сосчитать, скольких он убил, а скольких ранил, — отвечал мой золотой.
— Значит, ты не видел лиц тех, кто тебя поражал и одаривал ранами? – Не успокаивалась я.
— Конечно, нет, мам, — говорил мой жеребёнок, — нынешние войны подобны дождю, капли-пули которого могут угодить, в кого попало.
После этих слов я теряла интерес к непонятной мне войне, переходила на обсуждение мирных тем.
— Рассказывай дальше, думал ли о нас, о будущем – вопрошала я.
— Ну, конечно, мам, — отвечал он, — не только думал, но и спешил обрадовать, у вас скоро будет невестка.
— ?!?
— Да, я встретил её там, где мы добили наших врагов.
— Из какого она рода, — растерявшись, я задала пришедший первым на ум вопрос.
— Мам, у этого народа нет родов, она – латышка, такая же зеленоглазая, как и я.
— Ты хочешь сказать, что она из кафиров?! — вскричала я.
— Мам, ты же сама мне говорила, что люди под этим небом все равны друг с другом, кровь у всех красная, а не голубая, что даже ханы избираются не небом а народом.
— Но разве я говорила тебе, что можно жениться на безродных? – возмущалась я.
— Мам, я не привёз её только потому, что хотел сначала получить твоё благословление. Но я вижу, что ты его вряд ли дашь. К тому же, увидев послевоенную разруху, которая слизала весь достаток нашей семьи, решил, что сейчас не до женитьбы. Надо поднимать родное гнездо, аул. Видать, судьба наша такова: воевать, разрушать, а затем уже обновлять и развивать. Что ж, не мы выбираем судьбу, а она нас.
— Таким образом, твой отец предопределил не только свою судьбу, но и твоё рождение. Считай, что к твоему рождению самое прямое отношение имею я. Если бы не воспротивилась этой женитьбе, то сейчас вместо тебя, бегали бы в ауле уже не зеленоглазые, а голубоглазые и светловолосые бестии-полукровки, полукафирчики, — шутила, смеясь, бабушка.
— Но разве я не мог быть кем-то кто-то из них, — задавал я наивный вопрос, отвечать на который бабка не считала даже нужным.
— А как я появился на свет, – задавал ей внук этот важнейший для него вопрос, — меня, как поётся в твоей песне, подобрали в диком поле, куда я выпал из телеги?
— Глупенький, — смеялась бабушка. – Ты родился, визжа, как волчонок, рыча, как тигрёнок. Какой-то корявый, некрасивый комок, будто сердитый на то, что родили его без его согласия.
— Этот будет жить долго, — пророчествовали твои тётки, — только надо дать ему соответствующее имя. Право дать имя было у твоего деда. Мы только сообща попросили его наречь тебя именем достойного, мирного человека, а не словом из языка войны. Такими словами он одаривал своих детей, будто заведомо готовил их к битвам. Сутки понадобились деду, чтобы подобрать тебе его. Испокон веков так повелось в Степи, что имя человека имеет магическое значение, его следует выбирать основательно, не спеша. Как назовут человека, так он и будет жить. Человек – это его имя.
— Его я называю Бекет, — объявил о своём решении твой дед после долгих раздумий, — в честь имён казахских батыров и святого мудреца из рода Адай. Пусть он вырастет и воином, и мыслителем, и избранником Бога Неба.
— Дед твой учёл наши пожелания, но не мог не гнуть свою «военную линию», пожелав тебе воинских подвигов, хотя и умерив их умом мыслителя, — примерно так говорила бабушка, рассуждая, как заправский любомудр.
«Человек – это его имя»… «Как человека назовут, так он и будет жить»… Пророками, видать, были степные мудрецы, высказавшими эти фразы. Провидцем оказался и мой дед, предрекая всю мою будущую жизнь, как оракул, вложив в свои уста фразу предрешения. Два десятка своей сознательной жизни я носил погоны и оружие, находился в «горячих точках», охранял общественный порядок и мирную жизнь граждан, одновременно, уже имея профессиональное образование философа, обучал других не только премудростям наук, но и воинской морали.
Много прелюбопытных историй и рассказов, назиданий и житейских мудростей, сказок и былин, пословиц и поговорок доводилось мне слышать от своей бабушки. Мне казалось, что она и есть Богиня, кладезь знаний и опыта, средоточие справедливости и мудрости, вершина благородства и красоты. Это уже потом я стал понимать, что она – обыкновенная половчанка, хранившая в памяти историю и культуру народа, действовавшая по канонам степной морали.
— Жеребёнок мой, живи, как полураскрытая и одновременно полузакрытая ладонь. Сожмёшь её в кулак, — ничего туда не попадёт, не войдёт, не пребудет. Раскроешь её полностью, — всё, что было в ней, выкатится, рассыплется, пропадёт, — поучала она меня.
— Все люди в роду, даже в семье, не бывают одинаковыми, как неодинаковы пальцы на руках, не стоит пытаться переделывать их равными, — мудрствовала она.
— Остерегайся людей, многие из них шакалы, — засунешь палец в рот, откусят целиком руку, — уже начинала пугать теми, кого я считал уже такими же, как я.
Намного позднее эти и подобные им назидания бабушки я обобщил для себя под термином или рубрикой «философия на пальцах».
Когда умерла моя Госпожа, я уходил ночью из дома, шёл на кладбище, обнимая пыль и грунт над прахом Богини и орошая их слезами, засыпал в изнеможении. В то время я ещё не владел терминами из области психологии, такими как «медитация», «реинкарнация», но внушал себе, что посредством сильных собственных чувств могу оживить свою Госпожу или вызвать её дух в какой-либо другой форме. Причём, каким-то образом я достигал самовнушения, сумел даже создать реальность, похожую на общение с ней.
— Жеребёнок мой, не будь слишком скромным, скромность украшает человека, лишь когда ему нечем украшать себя, — изрекал бабушкин голос.
— Ты достоин, быть наилучшим человеком, выше, чем даже тысячи людей, — шептала устами бабушки её могила.
Позже подобные афоризмы я нашёл у Гегеля и Гераклита, удивляясь всеобщности и вневременности человеческой мысли и мудрости.
Я люблю тебя, малыш,
в поле найденный голыш.
Чадо в поле? Это дивно.
Из телеги выпал, видно, —
слышался откуда-то сверху поющий голос Госпожи моейСмысл песни соответствовал моему душевному состоянию. Состоянию отчаяния, одиночества, потерянности, заброшенности. Уже потом, осваивая историю философии, сравнивал слова этой песни с категориями философии экзистенциализма. Но всё время быть и жить в состоянии пограничья невыносимо, да и невозможно. Надо было жить дальше. Учиться. Приобретать опыт.
И я не пошёл, а поскакал по этой земле, как солнечный жеребёнок моей бабушки, стал парить в облаках грёз и надежд, взбираться на вершины знаний и навыков, утверждать свой характер, как учила меня тому моя Госпожа, моя Богиня.
Теперь я понимаю, что для своей Богини Богом воистину был я сам…