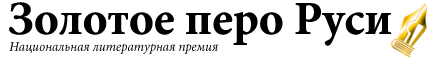Сергей ВОРОНА
СУЕТА СУЕТ
повесть
I
Кое-что о нижнем белье и природном газе
Летом сон по обыкновению короток: чуть проступили за окном очертания кроны абрикоса – и Фомич уже на ногах. Жена еще посапывает под простынею, лицом к ковру на стене, и что-то бормочет про себя.
Августовская пора теплая и неподвижная, и во двор Фомич выскальзывает в одних трусах и тапочках. В усладу ему первым нарушать чуткую дремотную тишину, звякая ключом в висячем замке на калитке.
— А, спите… — Снисходительно бегают его глазки по темным окнам соседних домов. – Ну и спите, спите. Хоть на часок, а я раньше…
Потом, отперев летнюю кухню, со связкой ключей он спешит к хозяйственным постройкам. Отсюда замечает в доме своего крестника, через три огорода, вспыхнувший вдруг яркий свет. Свет бьет из всех окон и сквозь деревья крестникового сада образует размытое желтое облако. Фомич останавливается в подозрительном недоумении: «И чего баламуту не спится? Говорил, ремонт затеял — дня мало, утро прихватить хочет… Брешет! Наверно, с перепою в голове чертенята завелись…»
Фомичу под семьдесят, но по своему подворью он носится как молодец поджарый, довольно шустро: то с охапками травы или ведром зерна, то с двумя ведрами воды или запаренной дерти. Прочное ведро, без течи, с надежной дужкой, без оржавленных по верхнему ободу заусениц, что рвут штанины, — ведро такое в хозяйстве, разумей, полдела главного дела. Только у Фомича… Неожиданно одно ведро, лязгнув обо что-то, вывернулось из руки, больно чиркнуло Фомича по бедру, и впопыхах шмякнулся он задницей на землю, в вывалившуюся из ведра липкую дерть. Ах, мать твою!.. Рельс проклятый! Уже и временной изгороди нет, что была тут лет пятнадцать назад для гусей, а чертов рельс так и торчит без толку вкопанным. И молчал же, бестия, по сей день!
Раздражительность разбирает Фомича.
— Вырою! – рычит он, сгребая ладонями дерть и бросая ее в ведро вместе с землей. – Сегодня же!
А посудина уже того: с одного боку дужка обломилась вместе с ушком. Чертыхаясь, липкими руками Фомич прижимает наполненное ведро к груди и в липких же трусах неуклюже тащит его в свинарник…
Никакого терпения не хватает у него на все непредвиденное; взявшись за привычное дело, его он видит уже завершенным: все одно к одному должно идти без перекосов, безо всяких там выкрутасов. Если бы жена или, допустим, сын невзначай в чем-нибудь оплошали, то с чистой совестью хозяина он бы целый день ел их поедом, а сам бы при этом расхаживал гоголем. Если бы… Но сегодня – не с себя же шкуру драть!
В сарае, вытерев руки о чистые спереди трусы, Фомич включает свет и долго роется в одном из ящичков. Наконец-то он выуживает ржавый гвоздь, на глаз прикидывает его размеры и, с хрипнувшим в горле «р-р-а-а», всаживает его молотком в ведро, пониже верхнего обода; но дыра образовалась все равно узка – крючок оторванной дужки не впихнуть. Ничто подобное толще гвоздя не отыскивается, и Фомич, с досады сплевывая, выходит из сарая…
За летней кухней у Фомича есть душ.
Искупавшись, он появляется во дворе уже в других, чистых, трусах. Присаживается на низкий табурет, под которым стоит чашка с грецкими орехами, и закуривает вонючую «примку». Пятками он тарахтит чашкой и нетерпеливо ждет, когда из кухни жена Галина позовет за стол. Солнце уже взошло. Прошелестел листьями винограда на беседке ветерок; досыта накормлено и напоено хозяйство, лишь старый пес Боцман скулит – давать ему не к спеху.
— Ну, что! – кричит Фомич в который раз. – Скоро?
— Скоро! – кричит и жена, пресытившись его упреками. – Ты, что, встал не с той ноги?
— С той не с той, какая разница!
— А трусы где? Я тебе вчера новые давала, после бани.
— Там… — Притихает Фомич. – На проволоке, возле душа.
— Что еще?
— Так, ничего…
Не желает Фомич отвести душу, даже с близкими. Не по нему, особенно в старости, выставлять себя напоказ своими проступками. И потому до сих пор в его голове войной воюют: чертов рельс и сломанное ведро, зудящая на ноге царапина и необъяснимый ранний свет в окнах крестника…
— Лучше не нашел? – шипит Галина. – Напялил задрипанные – дыра на дыре. Чего штаны не оденешь? Крестник который год над тобой потешается: ходишь как бомж.
«Началось в деревне утро… — размышляет Фомич про себя. – А что произошло? Помылся, трусы сполоснул. Был бы в штанах, все штаны были бы в дерти, порвал бы еще. Галке — стирать, зашивать… От лишней работы бабу избавил. Зачем ей все это объяснять? А она крестником укоряет, вспомнила баламута».
Но и Фомич ничего не забыл…
Лет десять назад к Малой Гавани подведена была труба с природным газом. Жители городка объединялись в кооперативы и уже на собственные деньги газопровод разводили по улицам и в свои дома и квартиры. Фомич и его крестник проживают на разных улицах, но вошли с природным газом одновременно в одну зиму. Фомич не пожелал изменить привычный уклад своей жизни: отопительный котел поставил в доме, где нет удобств, и где семья только ночевала, и котел – в летней кухне. В кухне во все времена года обедают, отдыхают у телевизора, тут есть и ванная, и все такое… Так сложилось с годами, что тут принимают гостей и отмечают всякие праздники. Крестник же свою летнюю кухню преобразовал в сарай, а дом расширил и напихал его всякой бытовой всячиной, что вышел он сродни благоустроенной городской квартире.
И вот однажды, будучи с пустым делом у крестника, Фомич высмотрел в простенках тонкие трубы и, рассуждая о достоинствах газа, недвусмысленно подпустил шпильку: мол, малость кто-то просчитался – сэкономил на трубах, теперь и газ для него не газ, и в доме прохладненько. А у Фомича в трусах можно валяться на диване: жара такая, потому что по всему дому проведены трубы толстые… В ответ крестник повел заумную речь, что в трубах нет эстетики: в комнате создается атмосфера этакого подвала, где переплетены все хозяйственные коммуникации. Более красивы компактные чугунные батареи. (Крестник раздвинул шторы, и под окном Фомич увидел то, о чем ему, как ребенку, втолковывали.) И температура воздуха — восемнадцать градусов — вполне нормальная: можно и повысить, но для чего дом превращать в баню? То, что крестный в трусах, так он и летом в трусах – ему просто-напросто нечего одеть. Если не с пенсии, то продайте пару кроликов или гуся — купите домашний спортивный костюмчик, что все мужики носят. Ан, нет: лучше пережаренную гусятину – на стол, сами – за стол, в трусах, в окружении толстых труб и спертого воздуха. Прямо – как бомж в подвале…
По дороге домой Фомич сознавал, что над ним посмеялись, однако пребывал в некотором недоумении: как ловко так крестник вывернулся и с отопления перескочил на какого-то гуся? Еще и пережаренного… Все рассказал Фомич своей жене; но для себя, как на лбу, зарубил: трубы лучше батарей, а крестник – обыкновенный баламут…
В соседних дворах пробуждается жизнь. Были среди соседей и приятели Фомича, но одни умерли, другие годами болеют на кровати. Зайти их проведать Фомичу все недосуг. Дворища приятелей обживают их дети с семьями. «А, проснулись, сони… — посмеивается Фомич над этим поколением. — Я уже на завтрак, а они только впрягаются. Могли бы еще подрыхнуть: полторы курицы на человека – разве это у них хозяйство?»
Выбросив окурок, Фомич наклоняется, притягивает из-под табуретки к ногам чашку с грецкими орехами и снова кричит:
— Ну, что, готово? — Да сейчас уже, — доносится из кухни.
Кирпичным обломком Фомич колет орехи; ядра бросает в чашку, а скорлупки – под табуретку. Сквозь решетку железного забора замечает быстро проходящего крестника и недоуменно-радостно его окликает:
— О! Э! Васька, легок на помине!
Помятый, с похмельным лицом крестник заходит в калитку. Присаживается рядом на корточки и здоровается отчего-то шепотом.
— Сбегал? – спрашивает смекалистый Фомич. – А я думаю, чего это в такую рань у Гармоники свет горит? А то у тебя не свет – то душа у тебя горит. – Похохатывая, Фомич оглядывает крестника. – Где же она?
— Ох, вчера и перебрал… — Из-за спины Гармоника вытаскивает пластиковую пол-литровую бутылку, отхлебывает и закусывает орехами. Фомичу захотелось вдруг тоже выпить, но он пересиливает себя и от водки отказывается. Гармоника продолжает все так же шепотом. – У вас утром замок на калитке, вот – в долг взял.
— Что так? Шабашишь-шабашишь, а денег ноль? А в школе еще сторожишь?
— Ушел.
— Выгнали?
— Сам.
— Так я тебе и поверил. – Фомич бьет обломком по ореху. — А бутылки не хватит, придешь же? Приходи после обеда, мне надо на форточку стекло вырезать.
— Если отклыгаю, — шепчет Гармоника, — приду.
— Чего говоришь шепотом?
— А чего вы так громко орехи колете?
— А как мне их еще?
— Барину мешаете последний сон досмотреть, — язвит крестник и кивает на окна дома, где спит сын Фомича. — Ненароком проснется, не выспавшийся, злой, спустит с вас трусы – и всыплет, как следует, ремня.
— Баламут! – Фомич вскакивает с чашкой в руках. – Мне жрать пора.
Встал с корточек и Гармоника, обещая подойти ближе к вечеру.
— А, брешешь. Нажрешься и забудешь.
— Сказал, значит, вырежу, — говорит Гармоника, закрывая за собой калитку.
…После завтрака, обмякнув, Фомич располагается в трусах на том же табурете и с наслаждением посасывает ту же «примку».
В высокой синеве застыли два перистых облачка, легкий ветерок внизу, как теплое дыхание, обдувает черные гроздья винограда на беседке. Славным обещается быть денек!
Фомич наново перетасовывает расклад утренних проблем, вдруг оживляется и наставительно кричит в кухню жене, чтобы лодырь Андрюха, когда проснется, глянул в сарае на ведро – по метке догадается, что надо; и выкопал рельс… Сам же Фомич махнет на рыбалку; да и развеяться – воскресенье!
II
Наживка для бычка
На рыболовецкой базе у моря, в сторожке-вагончике, за столом у окна сидит бондарь Иван Барабулька и с ленцой перебирает камни домино. Есть люди, которым неуютно от доставшегося им наследственного обличья: то морда рябая, то нога хромая. У Ивана Барабульки, наоборот, чего ни коснись, во всем разлито довольство: в дородном рыхлом теле и в растяжечку произносимых словах, в мясистом багрово-синем носе, а уж из губастой улыбки так и выпирает, если кто, не ломая языка, выговаривает правильно его отчество – Пантелеймонович. Его дальний родственник по жене, Лука Фомич Куроцапов, считает, что Барабулька из той породы людей, которых хлебом не корми, дай о себе услышать доброе слово.
— Пантелеймонович, — говорят ему молодые рабочие, — тебе на винзаводе в белом халате работать. А ты всю жизнь тут, на бочках с вонючей камсой просидел.
— Я бы там спился, — улыбается он, задирая свой символичный нос. – Меня б оттуда быстренько турнули.
— А тут? – смеются молодые.
— Тут… Я уже пятый год пенсионерю, а поди найди мне замену? Из вас всех, молодых, кто пойдет в бондари за копейки? То-то же… В наше время вам сторожами в самый раз: переночевали – оклад стабильный; а днем – шабашка. Гармоника деньгами не обижает? Я его знаю: нормальный. И не пьет совсем, прямо как я… — И из толстых губ бондаря вылетает глухое раскатистое подобие смеха: — Гу-гу-гу-гу-у-у… В окно ему виден широкий асфальтированный двор, кирпичные цехи по переработке рыбы, пришвартованный к причалу арендованный сейнер, похожий на огромное ржавое корыто, — тишина кругом по случаю выходного дня. Тихо и у холодильника снуют молодые рабочие с картонными коробками: загружают автомобиль-фургон копченой рыбой. Рабочие – четыре сторожа: двое отдежурили и теперь днем вкалывают по просьбе начальства, остальные – утром заступили на смену, тоже подрабатывают. То, что молодые рвутся в сверхурочную, умиляет бондаря; но, не будучи навязчивым, намеками он поучает, чтобы не надеялись они на бумагу-наряд: то запамятует начальник, то бухгалтерия бросит в корзину. За дополнительную работу есть своя оплата: или наличными, или товаром. Но ребята, кажется, не промах… А вот по двору наискосок, от проходной к сторожке, тарахтит в окружении лающей своры старенький «Минск». В скукоженной фигурке мотоциклиста, в натянутой по самые глаза белой кепке, Барабулька узнает своего родственника Луку Куроцапова. Утренняя неустроенность давно схлынула с души Фомича. На топчан он садится, как падают в мягкое кресло, вольно раскинув в стороны руки. И, вместо приветствия, бодро говорит то, что всю дорогу вынашивал: мол, с утра жена выгнала его на рыбалку — захотелось ей жареных бычков. Но Барабулька знает своего родственника рыбачка и больше чем уверен в том, что Фомич – как и две недели назад, как и месяц, как и всегда – даже червей не накопал, а женой прикрывается в угоду себе же. — Давай сюда, — пухлыми пальцами вращает Барабулька по столу камень домино. – Дальше моря Галкины бычки не убегут.
— Вдвоем? Та-а-а… — отмахивается Фомич, подергивая свою кепку за козырек. – А ты чего, никак прихватил еще ставку сторожа?
— Сторожа рыбу грузят, — охотно поясняет Барабулька. – Что-то срочно понадобилось. Меня вызвали – должны бочки старые привезти. Кому же их сортировать? А то свалят в кучу, разгребай потом: что под камсу, что в ремонт. Ну, давай пока вдвоем? Ребята вот-вот подойдут.
— А что за рыба? – живо интересуется Фомич.
— Скумбрия копченая, — интригует бондарь, потирая пальцы. – Вот такая вся, жирнющая…
— А есть кто? – кивает Фомич в потолок.
— Ну, этот же… Ты еще с ним на короткой ноге. Но пока не ходи, там люди. При людях он… сам знаешь.
— Гм, ладно, — с улыбочкой Фомич подскочил к столу, сел на табуретку. – Давай… Говоришь, еще и бочки подвезут?
Игра не клеится вдвоем. Они больше разговаривают, чем отбрасывают костяшки на больших бухгалтерских счетах. Оказывается, Барабулька уже выкопал картошку; огород он поливал, и урожай выдался отменным. Фомич еще не начинал: жара, а копать по утренней или вечерней прохладе он не приучен; ему надо так: впрягся – и чтоб на весь день.
— Как твои оптовики из Анапы? – лениво интересуется Барабулька. – Продал поросят?
Фомич настораживается и переваривает в голове: что в свой предыдущий приезд он мог сболтнуть Барабульке, и почему тот запомнил, и с какой долей открытости ему отвечать. О хозяйстве можно толковать только с теми, кто сам хозяйствует, а с посторонним — нет, еще сглазит.
— Да, ну… — бормочет Фомич уклончиво, принимая вид, что весь в игре. – А я вот, пятачок запишу. – И щелкает костяшкой на счетах.
В этом году Фомич откормил на продажу всего шесть кабанов. Молодые анапские закупщики-оптовики оглядели товар и протянули ему две пачки денег в банковской упаковке: «Бери, дед, — сказали твердо, — и радуйся. Никто больше не даст. Краснодар рекомендовал не вывозить мясную скотину за пределы края. Мяса навалом – цены упали». Всегда бегающие цепкие глазки Фомича остеклененно застыли. Он сравнил эту сумму с той, на которую по своим подсчетам рассчитывал, — и вдруг захрипел, забрызгал слюной: «Сопляки, проходимцы, дерьма не нюхали – а четырех кабанов из шести, выходит, отдай вам задарма?!» На другой день он позвал мясника (его мутило от вида свежей крови, за всю жизнь он и курицы не зарезал)… Жена закатывала мясо и колбасы, топила смалец и солила сало. Наглые шельмецы наведывались еще, завлекая смешной прибавкой, но упрямый Фомич был ни в какую и валил кабана за кабаном, чтобы не переводить корма, — в сараях похрюкивало еще десять подрастающих рыл. И еще то его бесило, что с базаром у него нелады. Давно, что и год не вспомнить, вывезли они с Галиной на тачке чуток мяса; но непоседливому Фомичу быть за прилавком — каторга: то в его левой ноздре зачешется, то правая пятка засвербит. Промаявшись с полчаса, сбежал он домой, как пацан; лишь к вечеру с пустой тачкой вернулась неразбитная жена… На том и кончился у Куроцаповых первый и последний поход на базар.
— Сколько их у тебя? – спросил бондарь, пряча усмешку. Уж ему ли не знать хозяйство своего родственника. – Штуки два-три есть?
— Да, так… — уклоняется Фомич, предположив, что Барабульке ничего не известно. — Порежу в зиму.
— И то верно, — соглашается Барабулька. – Будешь с колбасой. Тебе хорошо: есть земля в поле — есть и зерно. А я уже не держу, корма дорогие. Сын пробовал – бросил, накладно. То с земельного пая хоть чуток зерна ему перепадало, но пай пришлось продать: газ провели. Внуки уже не знают, что такое домашняя колбаса, а вырастут – и навыка к хозяйству нет. Они уже живых курей называют окорочками… А на что тебе деньги? – вдруг спросил Барабулька. – Старику нужен покой, тепло, уважение…
Не-ет, такими словами Фомича не купить, не из тех он, кто развешивает уши на сладкие увещания.
— Ты хитрый, Пантелеймонович! Я же старше тебя всего-то года на три-четыре… С тобой сын с невесткой живут, жена – хозяйка, а сам-то еще пыхтишь…
— Так и у тебя сын здоровенный какой, Галка еще бегает, — улыбается бондарь. – А я больше по привычке. Замены мне нету, да и к людям привык. А работе моей цена копейка.
— А лишняя копейка карман не тянет, — колет Фомич со смешком и так поправляет кепку, что она оказывается у него почти на затылке. – Знаю я тебя, хитреца.
В это время в вагончик вваливается веселая толпа молодых ребят с картонными коробками. Один из них, с вьющейся черной шевелюрой, быстро распорядился, чтобы коробки запихнули под топчан, и говорит:
— Пантелеймонович, это – на пятерых, за погрузку и вперед за бочки. Вроде бы нормально, а? Он звонил, КАМАЗ с бочками будет часа через полтора.
— Освободился, — шепнул бондарь живо приподнявшемуся Фомичу. – Сходи, спроси.
— Он уже в город поехал. – Чернявый тычет пальцем в окно на проезжающие «джип» и «Газель». – Ему что-то в конторе надо, бухгалтеру звонил…
Фомич как-то весь сник, как курица под дождем.
— Тогда партейку? Садись, Фомич, не расстраивайся. Твои бычки в Турцию не уплывут. Давай, молодежь против стариков.
В хитрой игре домино, как в иных жизненных ситуациях, Фомич проявляет всю свою изобретательную натуру.У него нет той части, что не была бы занята в игре: двинув плечом, широко взмахивает он рукой и с гортанным «р-р-а-а» бьет камнем по столу, в восторге топочет ногами и, откинув голову, в ту же секунду зорко считывает выражение лица и очки на камнях зазевавшегося соседа. Рыхлому, медлительному Ивану Барабульке в охотку быть в паре с вертлявым родственником. Они выиграли одну партию, вторую – уже у других партнеров, и, когда к столу подсели вновь первые, чернявый и светловолосый, Пантелеймонович витает уже на вершине довольства и, как оракул, пророчески молвит:
— Сейчас проигрываете и идёте трусить мои верши. – И подмигивает не менее довольному Фомичу. – Как мы их, а? Будут твоей Галке бычки!
— Все три? – спрашивает чернявый, ехидно усмехаясь.
— Можешь и свои в придачу.
— Пантелеймонович! – вскинулся вдруг чернявый, а глаза между тем вылупил на Фомича. – Я на базе с весны, его вижу в четвертый раз. Бьюсь об заклад, у него в сумке, на руле мотоцикла, как в прошлые разы, банки с червями нет, крючки обломаны. Кто ж так на рыбалку собирается? Он хотя бы раз полторашку вина привез! Как тихий рэкет: камешками за компанию постучал, дань рыбой собрал – и будь здоров.
Летая в облаках двукратной победы, Фомич опешил от такого поворота разговора. Вначале он подумал о чернявом: не можешь работать головой – мешай руками домино за проигравших. Потом, нервно закурив «примку», пробормотал что-то о знойном лете, растрескавшейся земле и невесть куда подевавшимся червям. Наконец с облаков спустился в напирающую на него реальность: не отстанут от него эти выпученные желтые глаза.
— С нового урожая! – обещает он твердо и потрясает руками над головой, так что кепка нелепо свешивается козырьком над ухом. — На беседке еще висит.
— До нового еще дожить… — не угомоняется чернявый. – Пантелеймонович, я не верю, чтобы у него прошлогоднего не осталось. Жмот он! А, точно! Молодое вино пойдет – как раз начинается путина. Частные охранники его к базе и близко не подпустят. Вон оно как. Все рассчитал, хитрец: с нового урожая…
Пухлыми ладонями Пантелеймонович мешает и мешает домино и, как на что-то обыденное, даже бровью не ведет на взбесившегося парня; тот вскоре остывает, взмахом руки завершая разговор: ну и фиг с вами, бычки-то не мои…
Потеряв было голову от пустых своих обещаний, Фомич вновь приободрился.
Предсказание оракула сбывается. Намутивший воду сторож уходит с напарником «трусить верши».
Но уже четвертая партия не заладилась на руку старикам. Всю игру Фомич силился вспомнить, что уже где-то, где-то в городке, он встречал этого водомута: именно его дико вытаращенные глаза и черная шевелюра – чуть зарябят и тут же размываются в памяти…
КАМАЗ с бочками подъехал, когда Фомич, приладив увесистую сумку с бычками на руль, тщетно пытался завести мотоцикл. Все четыре сторожа отправились на разгрузку, вместе с ними и бондарь. Родственнику бондарю Фомич напоследок шепнул: «Заходи вечерком». – И показал прижатый к груди кулак с оттопыренными двумя пальцами, большим и мизинцем.
Оставшись один, с задумчивым видом Фомич несколько раз обошел мотоцикл. Он заглядывал в топливный бак, сжимал пальцами спицы на колесах, не поленился опуститься на колени и ковырнул палочкой в выхлопной трубе, даже подул туда – подвоха никакого, чего ожидал он почему-то от чернявого. На земле перед мотоциклом он небрежно разложил ключи и, закурив, сел в тень на порог у открытой двери вагончика. Вся беда в свече, а если нет, то в карбюраторе или, черт его знает, в чем еще… Если бы было у Фомича рыл пятьдесят поросят, то ни за что бы не уставал он таскать им с утра до вечера ведра с дертью. Но возиться с этими винтиками, гаечками и тому подобной дребеденью – уже от мыслей только об этом потела лысина под кепкой.
Пришедший спустя время чернявый сторож не выказал познаний в технике; но сразу заглянул в вагончик и придирчиво пересмотрел под топчаном коробки с рыбой. Потом, с разрешения шофера подъехавшего КАМАЗА, помог Фомичу загрузить мотоцикл в кузов. Когда Фомич, подгоняемый шофером (тот торопился), влезал в кабину, то чернявый подал ему позабытый инструмент и напомнил: «Смотри, дедуля, магарыч за тобой!»
III
Тот проклятый рельс
Избегая того, что всегда можно предусмотреть, на базу Лука Куроцапов трясся по ухабистой окружной грунтовке, потому что никогда не было у него корочки на право управления техникой, а у мотоцикла – номерного знака. Обратно в город КАМАЗ мягко мчал его по асфальту. Слева тянулись зеленые ряды виноградников; справа поля были черные, тянуло гарью, — перед тем, как поднимать зябь, сожгли никому не нужную солому.
Куроцапов ожидал, что незнакомый ему шофер, как всякий нормальный человек при встрече с рыбаком, будет неустанно надоедать дотошными: что? как? на что?.. Но шофер, не глядя на него, всего лишь сказал:
— Натягал бычка, Лука Фомич, что драндулет не тянет? – И даже не улыбнулся.
Куроцапов спросил, откуда шофер его знает. Без всякого интереса тот ответил, что знает и его сына, и замужнюю его дочь, что живет в Краснодаре, и все сорок два года – сколько ему есть, столько помнит и Фомича и его драндулет. Потом шофер назвал свою фамилию; оказалось, что Фомич слыхал о его родителях, и что КАМАЗ их собственность. Упрямо молчал шофер о своих доходах, как ни выпытывал Куроцапов, но обмолвился, что работает по найму и удачными бывают дальние рейсы, и ему хватает…
При въезде в город их пути расходились.
Вдвоем кое-как они стащили на землю мотоцикл. С брезгливостью прикасался шофер к покрытому ржавчиной древнему «Минску».
— Ну и рухлядь, — говорил он. – Дома взаперти такую держать стыдно, не то чтобы еще по улицам… Купи, Фомич, себе новый. Неужели не накопил за жизнь? А этот покрась, поставь как памятник. Сейчас мода на памятники: то каким-то рыбам, то всяким шлюхам из кино… Лишней бронзы в стране до фига. А у нас будет натурально мотоциклистам. Целому поколению. Звучит!
Шутил шофер или вправду был так устроен, но промолчал Фомич и толкнул мотоцикл с асфальта в незаметную боковую улочку. А было ему что сказать: расплодилось советчиков – хоть пруд пруди! Взять, к примеру, не такого уж и простака, этого Барабульку: подначивает на печи лежать, а самого помани пальцем – и дома все бросит, побежит за дешевым наваром. Или те, желторотые проходимцы, им только кабанов и продай и не надейся, что закупочные цены вырастут. А шофер этот? Скажи ему: свой собственный КАМАЗ ты водрузи как памятник! Известно, какими-такими словами он ответит… И каждый норовит сбить тебя с толку, пошатнуть, и если не по природной своей глупости, ради смеха, то чтобы из этого что-нибудь поиметь. Как тот, шельмец чернявый, указывать он будет, кому причитается магарыч…
Стоп!.. Вот здесь, вспомнил Куроцапов, у нового необжитого дома, впервые ему и встретился тот неприятный сторож. Тогда, месяца четыре назад, он проезжал по этой улице, и его остановили очень уж интересные кирпичики: все стороны, как обычно, гладкие, лицевая же – выступает затейливыми ромбиками. Чудные кирпичики два молодых человека ловко шлепали на раствор в цоколь дома. Фомич исподволь затеял разговор с молодыми о том, о сём и невзначай спросил для себя десятка три. Один шабашник, тот самый чернявый сегодняшний сторож, деловито отрезал: «Иди отсюда, дед. Социализм был вчера. Мы на хозяина работаем…» Фомич, как бы в шутку, продолжал настаивать. Тогда другой, светловолосый, развязно посоветовал: «Дедуля, в магазине все есть». За деньги – что надо, где надо – и дурак найдет, рассудил Фомич здраво и посулил ребятам магарыч. Тут чернявый вскинул голову и, вылупив глаза, послал куда подальше Фомича вместе с его магарычом… Оскорбленным уехал Фомич; но не столько напутствие его оскорбило, сколько то, что эти два сопляка ему не поддались…
Сейчас, натужно толкая сломанный мотоцикл мимо этого дома, Фомич злится и негодует, нимало уже не сомневаясь, что напакостил ему на базе именно чернявый…
В своем дворе Фомич видит привычную картину: очень полный, с лысым черепом и пушистой косичкой, схваченной на затылке резинкой, его сорокапятилетний сын стоит в трусах босиком на коврике и усердно занимается гимнастикой. Сцепив пальцы вытянутых рук над головой, виртуозно колышет он из стороны в сторону громоздким, как двадцативедерный бочонок, туловищем. На появившегося с мотоциклом без звука Фомича так округляет глаза, будто дома тот не ночевал. Потом молча открывает калитку, снимает с руля сумку и, заглянув в нее, похвально причмокивает: «Ого! М-м-м…»
Незаметно откуда-то выскальзывает Галина, принимает из рук сына сумку и тоже не скрывает удивления: «Ого!»
— С утра хорошо бралось, — говорит Фомич небрежно. – Потом как оборвало. Зажаришь на вечер. Сейчас – давай, что есть. Жрать хочу.
О сломавшемся мотоцикле Фомич ни полслова, ни вздоха; толкает его через двор и себе под нос бубнит: «А травы в обед давали кому? Конечно, не давали. Тогда я сам дам».
В сарае, на столе, с утра валяется то самое ведро, с оторванной дужкой, ржавый гвоздь и молоток. Из сарая Фомич выходит с мешком, чтобы в него нарвать травы, и за углом натыкается на торчащий из земли рельс – и тут его обуревает: отлучился на несколько часов, и хозяйство, как гладь мелководья после шторма, затягивается неподвижной гадкой тиной. Никому ни до чего нет дела!
— Андрюха! – кричит он раздраженно. – Почему рельс не выкопал? А ведро!..
Сын пыхтит, попеременно наклоняется то к одной, то к другой ноге, касаясь земли ладонями. Поворачивает неторопливо к отцу голову, и в его покривившихся губах Фомич видит недоумение.
— Тебе мать говорила? Давай копай – будет тебе зарядка!
— То не зарядка, — бурчит сын.
— А что, по-твоему?
— Работа. – Кривится Андрей уже всем лицом. – А зарядка – это зарядка.
— Ишь ты, грамотный… Чтоб сегодня выкопал!
— На сегодня у меня другие планы.
— Да у тебя планы: поспать да пожрать!
Терпение Фомича лопнуло. Нервно бегает он по заросшему сорняками огороду, пока не набивает полный мешок травой. В сараях, клетках и под навесами разбрасывает ее по кормушкам или просто на землю. Мимо сына, его не замечая, пробегает в кухню. Там раздевается до трусов и, усевшись за стол, выкладывает жене все, что он думает о лодыре сыне. Жена к этому привыкла и выслушивает молча.
Посторонние, видавшие случаем Фомича за едой, всякий раз невольно про себя отмечали: «Экая прорва!» — С поразительной быстротой, словно непрожеванные, в его рту исчезают невообразимо большие куски сала и вареного мяса, ломти хлеба, миски супов и салатов… Он есть без вкуса и разбора; кажется, еда для него, как бензин для мотоцикла, — топливо и только. Но что более удивительно: как может все это враз поместиться в плоском животе худющего лысого сморчка? Однажды кто-то пошутил: «Фомич, а не глисты ли у тебя?» — «Кто что работает, тот то и ест», — с тех пор сопит в такие минуты Фомич, пришедшего подталкивая за дверь. Обед! Святое дело. Никто не смеет его прерывать: ни враг, ни приятель, ни зашедший по некоей надобности знакомый. Жена тоже встает, гремя посудой, — они уже закончили; если только приступили или не начинали – уходит в другую комнату и включает телевизор…
Пообедав, чем бог послал, Фомич хватает со стола ложку и в спешке наталкивается в дверях на сыновний отвислый живот. Андрей деликатно посторонился и снисходительно набок склонил голову.
— Зарядился? – рычит Фомич. – Теперь жрать захотелось?!
От Андрея к отцу никакого внимания. Проходя в ванную комнату, он поводит носом на благоухающие на газовой плите кастрюльки и, к удовольствию матери, сладко нараспев произносит: «Ах, какие запахи… Что это тут у нас такое вкусненькое?…» Он долго плескается теплой водой под краном. Болтает головой, фыркает…
Тем часом Фомич вернулся с огорода и, плюхнувшись на свой излюбленный табурет под беседкой, ложкой делит на две части принесенный арбуз. Ложкой же вычерпывает арбузную мякоть и, давясь соком и сплевывая семечки, пытается пробиться к разуму сына.
— Выкормил, выучил… Старикам за шестьдесят, те еще бочки клепают. Молодые по воскресеньям пузо с девками на море не греют – копейку зашибают. И шофера не отсыпаются: есть дело – за баранку. Летом деньгу не срубишь – зимой лапу соси. Да, все работают! Ну, а этот, ну, слов просто нету. Долго ты у меня на шее сидеть будешь?
Разум сына как в броне.
Жена выглянула в дверь и зашипела:
— Ну, чего ты? Выходной день. Соседи дома, люди по улице ходят. Заладил одно и то же. Утихни!
Только этого Фомичу и не хватало.
-Ты еще покрываешь! – Вскакивая, что табурет переворачивается, он отшвыривает пустые арбузные чаши. Потрясая ложкой, бегает взад и вперед по двору в трусах и орет: — Пусть все слышат! Пятнадцать лет как институт кончил – и ни хрена нигде не работает! Долго я его буду кормить? Я понимаю наше время: агрономы идут в сторожа! Механики – в таксисты! Учителя – в торгаши! Он, что, исключение? Даже дома ни хрена ничего ничегошеньки ни на чуть-чуть не делает! Это уже что за наглость? Батя попросил рельс выкопать – нет, у него, хрена, планы не те, у него – зарядка!
Слышали или не слышали соседи праведный гнев Фомича – мы не знаем; но в себя пришел он уже молчаливо стоящим с лопатой у проклятого рельса. (Соседям, впрочем, не привыкать: если вспыхивает во дворе Куроцаповых гвалт, значит, взялись они за какое-либо дело всей семьей: или приколачивают оторвавшуюся доску к сараю, или пилят ненужную ветвь на дереве.)
Не хитрое дело копать, если грунт мягок да глубина известна. А тут, в без единого дождичка за все лето жару да за давностью лет – все не так. Фомич вспотел и запыхался, пока углубился в твердую, как камень, землю на два штыка. Рельс шатается, но вытянуть его – никак. Рыть еще глубже – значит, и яму расширять. Сколько лишней земли надо перелопатить! Но шатается же, как дряхлый зуб, паразит!..
Фомич принес табуретку, сигареты. Уселся и дымит, без мыслей глядя в яму. Пот щекотливыми капельками стекает по спине, и плечами Фомич так передергивает, как прогоняют назойливых мух.
— Воды плесни, — советует Андрей, проходя мимо в огород. – Пусть раскиснет. – И почесал живот с достоинством только что пообедавшего человека.
— Раскиснет? – На сына Фомич не смотрит. – Еще один советчик выискался. Закиснет!
Когда Андрей возвращается с арбузом, то на обильно залитой водой земле уже валяется поверженный рельс рядом с перевернутым пустым ведром. По колено и выше Фомич вымазан грязью, грязью заляпаны и трусы. Но главное: сидя на табуретке, свою «примку» лоснящийся от пота Фомич потягивает с гордым выражением победителя. Мокрой землей он стер на рельсе ржавчину, и ясно проступили некоторые знаки: «…1940… KRUPP…» Ему вспомнилось детство, оккупация, немцы и наши пленные, прокладывавшие к Малой Гавани узкоколейную железную дорогу, и захотелось об этом рассказать сыну, но…
— Я же говорил… — произносит Андрей насмешливо.
— Он говорил… — с ехидцей сопит Фомич. – Мало болтать. Делать надо!
— А ты сделал – это, что, арбузы? Орехи крупнее. Поливать надо…
— А ты на что? — вскипает Фомич. — Только языком молоть! Я сдохну, у тебя и такие не вырастут!
— У меня – вырастут!
«Вырастут… — бормочет Фомич себе в нос. – Только и ждешь, чтобы я копыта отбросил, да уж потом не увижу, как ты на пустом дворище гоп-гопака запляшешь…»
Напустив на лицо скуку, потому что не в его пользу складывается разговор, Андрей идет дальше, с ладони на ладонь перекидывая арбуз. В такт движениям рук колышется его голова, заметает широкую загорелую спину распушенная черная косичка.
«Ни хрена у него ничего не вырастет, — вслед ему думает Фомич. – Вообще у него ни хрена ничего не выросло. Косичка да брюхо… За бок ущипни – захихикает, чего доброго, как баба…»
Помня, что в свои под семьдесят он жив и еще крепок, Фомич потянулся к лопате, встал, опираясь на нее, и принялся наводить порядок на месте, где пятнадцать лет проклятый рельс проторчал бестолково.
IV
Вечнозеленый арбуз или кочевое животноводство
Истекающую соком прозрачную дольку Андрей отрезает от арбуза и кончиком ножа сковыривает на блюдце семена-бяки. Для его тучного тела движения губ и кистей рук несообразно суетливы: он словно не ест, а быстро объясняется жестами, как глухонемой. Между тем он еще и разговаривает, и уже через пять минут от арбуза нет и половины.
— Какой замечательный полосатик, — причмокивает он ежесекундно. – Маленький, а как мед. Мам, попробуй. Изобрели бы еще, чтобы без этих заморочек. Ей-ей, как здорово бы! Это же сенсация мирового уровня – арбуз без семечек!
— Как же? – отзывается мать, перемывая после обеда посуду над раковиной. – У всякого плода есть семечки. Как же размножать?
— Обыкновенно. Как и любое другое растение, плоды которого изначально лишены семян. Большинство людей наделено односторонностью мышления. Им бы до отвала набить брюхо салом да мясом – этими камнями. Вот и сосредоточили свое внимание на разведение там… быков, поросят. И всё такое… А есть вещи довольно тонкие, к ним особенный подход нужен. Будем развивать мысль логически: арбуз и клубника относятся к ягодным культурам. Почему растение арбуз не может быть вечнозеленым как растение клубника? Почему ягода арбуз не может быть без этих грубых семян как ягода клубника? Галина знает, что, вымыв и сложив посуду в шкаф, она пойдет поить птицу. После ляжет отдыхать. Фантазии взрослого сына ее не забавляют, но и не отвлекают.
— Ну, не знаю, — произносит она равнодушно. – Может, уже и есть.
— Нет! – восклицает Андрей, помахивая ножичком, как дирижер палочкой. – Наше сельское хозяйство – это неизлечимая головная боль для всех. Но никому не приходит в голову, что сельское хозяйство – это примитивный двухколесный велосипед. Пока крутишь педали – едет, не крутишь — даже на месте не стоит, падает. А надо-то всего придумать, чтобы хозяйство само крутило педали, чтобы если падало, само и подымалось, двигалось дальше. Как дикая трава в поле, которую никто не сеет, а она растет и дает урожай семенами. Как дикие животные, за которыми никто не ухаживает, а они размножаются, плодятся, наращивают мясо… Над этим стоит задуматься. Сортов арбуза чрезвычайно много. Разных размеров, тонкокорые, разных сроков созревания… Но никто из этих… как их? Селекционистов?.. Никто из них не откроет свои подслеповатые глазки шире, не всмотрится в проблему глубже: вечнозеленый многолетний куст с ягодами бессемянного арбуза! Вот над чем надо работать. Есть идея, и надо на ее основе создавать новейшую технологию производства. А у нас… У нас полное отсутствие мысли, даже на бытовом уровне… Конкретный пример. Фомич тот рельс целый день бы выкапывал. Я ему между делом подсказал, и он за пять минут управился… И я же остался виноватым. Вот как у нас!
— Так не лезь к нему. Видишь, с утра мечется, как угорелый.
— Что на сей раз с ним? – Причмокивает Андрюша, недовольно сплевывая семечко. – Тьфу, гадость!
Мать молча сушит полотенцем тарелку, не сразу поясняет:
— А то не знаешь. Всегда такой – перед запоем. Сегодня-завтра жди – сорвется.
— Гм-м-м… — Чуть было не поперхнулся Андрей и, прокашлявшись, с легкостью торопливо заговорил: — Это, значит, недельки на две-три. А я как раз в Краснодар собирался. Отдохну от него. Позвонить надо, пусть вечером меня встречают.
Галина на минуту замирает и с недоумением косится на сына. В его словах и поведении чудится ей что-то далекое, наивно-потребительское. Ну, чисто дитя неразумное. Не буньку же в своем городке проведать – Краснодар в двухстах километрах. И с чего это вдруг? Ну, заявится он к своей сестре и ее мужу: здравствуйте, устал от бати, приехал отдохнуть…
— Куда ты с пустыми руками? Уток порублю, кроликов еще… Мясо за ночь остынет – и утром поедешь. А сегодня к буньке сходи, яблок еще нарвешь. Скажешь, чтобы подвал держала под замком и Фомичу, если сорвется, ни под каким предлогом не…
Галина замолчала на полуслове. В дверях появился дышащий свежестью Фомич. После душа на его теле блестят капельки воды; он опять в других трусах — тех, что утром прополаскивал и вывешивал сушиться.
— Модник, — говорит ему Галина, усмехаясь, и объявляет: — Андрей к Светке поедет.
— Весной же был?
— А они у нас с Нового года не были.
— Пусть катится хоть ко всем чертям. – Фомич проходит в комнату, где есть диван и телевизор. И спокойно рассуждает: — Что он там забыл? Дома спит да жрет… Он же за раз съедает больше, чем я за весь день. Мяса сколько навернул в обед, а? С полкило, не меньше. А сам: мясо для желудка – камни… А в чай сколько сахара положил? Ложек десять? Что, не слышишь? И уши, наверно, от сахара слиплись?
— Я с повидлом, — неохотно отзывается Андрей, смакуя арбузик.
— А повидло, по-твоему, варят без сахара?
— Естественно, — произносит Андрей с подчеркнутой твердостью.
— Во как! И там так будет с умной рожей людей обжирать! Сосисочки, колбаска, повидло… А за все надо платить! Даже за ту колбасу из аргентинской дохлятины. Не понимаю: сорок пять лет – и ни стыда, ни совести! Ну и катись, чтоб глаза мои не мозолить. А денег – не дам! И ты не давай!
— Ну, что ты на него взъелся! – защищает сына Галина.
— Я и не прав? Пару кроликов разделай – мясо зятю… А этому, даже на автобус, — шиш, а не деньги! Пусть на карачках ползет в тот Краснодар. Вс%D