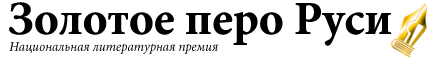Александр Миронов.
Два рассказа.
Ласка.
Бердникову Юрию.
Весь день в стену били тугие порывы ветра. За окном поскрипывали ставни, и где-то у соседей выла собака. А во дворе протяжно мычала корова Ласка. Мычала она и в обед. Юрка выходил, задавал ей сено. Вечером она к нему не притронулась.
— И что мамки с папкой так долго нет? — всхлипнула Людмилка.
— Приедут, — отвечал сдержанно мальчик. — Погода-то, ишь, какая. Все дороги позамело. Теперь их только завтра жди.
Слова брата сестренку не обрадовали. Ночевать дома одним, без родителей! — страшнехонько.
Юрке десять, Людмилке шесть лет. И сколько она себя помнит, ей никогда не было так одиноко, всегда были рядом мама, папа. И зачем они поехали в Зиму? Без них там свадьба не состоится, что ли?.. Девочка представила, как родители едут назад домой со свадьбы их племянницы. Вначале из Зимы в Шубу[1] на поезде. Потом в санях до своей деревни, да глядя на ночь, по метели… Ей стало страшно уже за родителей. Чудиться стали волки, которые гонятся за повозкой, медведи. Хотя она слышала, что медведи зимой спят в берлогах. Но от этого не становилось легче. И этот страх ещё больше угнетал Людмилку.
— Давай-ка ложиться спать, — предложил Юрка.
Сестра согласилась и покорно полезла на русскую печь.
— Ты тоже ложись, — плаксиво позвала она.
— Счас.
— И свет не выключай, а то страшно.
— Ну, нашла чего бояться, — с достоинством мужчины ответил он, но электрический свет выключать не стал — в десять сам погаснет.
Ветер к ночи поутих. Стал прослушиваться далекий гул дизеля на подстанции, вырабатывающий электрический ток.
Собака умолкла, лишь по-прежнему тянула унылую песню Ласка.
«И что с коровой делать? — думал озабоченно Юрка. — Доить ведь надо».
Повернулся на бок. Попытался забыться, но не смог.
На полатях, где лежал лук, шебуршали тараканы. Мерно постукивали настенные часы, и слышно было, если хорошо прислушаться, как тихо сползает цепочка с гирькой. И ещё слышно, как во дворе тяжело постанывала корова.
Мальчик выдержал полчаса, лежа без сна, потом сел, опустив ноги с печи.
Глянул на ходики — доходил десятый час. Скоро погасят свет.
«Надо посмотреть фонарь, есть ли в нём керосин?» — подумал он.
Осторожно, чтоб не разбудить сестру, стал спускаться на пол.
— Ты куда? — испуганно спросила Людмилка, выставив голову с печи — глаза встревоженные, светятся.
— Ласку пойду доить, — заявил решительно он.
— Ой! А ты разве умеешь?
— Как-нибудь справлюсь. Смотри-ка, хитрая наука…
— Тогда и я с тобой.
— Да спала бы…
— Нет!
— Ну, как хочешь, — пожал он плечами, надевая валенки. Оно и верно — вдвоём веселее.
Девочка за минутку-другую сползла с печи, вскочила в валенки на босу ногу, накинула шубёнку, шалёнку и была готова.
Юрке её сборы не понравились. Он достал с припечка шерстяные носки.
— Надевай!
Людмилка начала было упрямиться — ей и так будет тепло, — но стоило брату только привстать, что означало: тогда сиди дома! — она тут же согласилась. Он помог ей одеться, повязал голову шалью и сказал:
— Побудь-ка, я из сенок[2] фонарь принесу.
Холодный воздух барашками выкатился из-за порога. Людмилке захотелось погладить их, и она провела рукой, как будто погладила по их прохладным спинкам, но как только захлопнулась дверь, барашки исчезли.
Юрка принёс и поставил на лавку фонарь, который смешно называется — «летучая мышь». Снял стекло, вывернул фитиль и ощипал его от нагара, иначе его трудно будет зажечь. Потом выкрутил крышку и глянул в отверстие ёмкости — керосина было много. Зажёг фонарь и восстановил стекло на место.
— На, держи, — подал он фонарь сестре.
Людмилка приняла его вначале одной рукой, но фонарь оказался для неё тяжеловатым, подхватила другой.
Юрка вытащил из-под лавки подойник, плеснул в него из кадки два ковша воды, снял с гвоздя полотенце, которое мать обычно брала с собой, когда шла доить корову, и направился к двери.
К ночи метель прекратилась. Мороз покрепчал, просушил воздух, и он стал резким, колючим.
На минутку дети приостановились на крылечке, чтобы попривыкнуть к холоду. Прислушались.
Вокруг было тихо. Пробиваясь сквозь рваные облака, луна и звёзды ярко высвечивались на чёрном небе. Где-то за огородом в лесу постреливали деревья.
Из деревни доносился монотонный гул дизеля.
Несмотря на тишину, страх стал наползать на Людмилку изо всех углов двора. И даже там, где стояла конура Пирата, который не отозвался и не вышел к ним из нагретой лежанки, было что-то непривычное, пугающее. Девочка, оглядываясь, пошли по двору.
Над дверями стайки[3], как табачный дымок, слабо курился пар. Он выходил из щели и поднимался кверху, обтекая куржак[4], похожий на заиндевелые усы. Казалось, что это была не стайка, а чья-то большая голова и что, как только они подойдут ближе, голова оживёт…
— Му-у-ух! — услышала Людмилка и от страха невольно вздрогнула.
Ласка, заслышав скрип душки подойника, заволновалась. Как только в помещение вошли дети, корова подалась к входу и стала обнюхивать их, тяжело вздыхая.
Мальчик, закрыв за собой дверь, взял у Людмилки фонарь и подвесил на крюк в балке под потолком.
— Постой-ка, — сказал он сестренке и пошёл за треножкой[5], лежащей в яслях[6].
Усевшись под коровой поудобнее, мальчик обмыл водой, обтёр полотенцем вымя и, захватив пятерней сосок, с силой потянул его вниз, но знакомой звонкой струйки не послышалось. Повторил другой рукой, на что Ласка резко дернула ногой.
— Стой, чудо! — буркнул Юрка.
Корова не доилась уже сутки, вымя «нагрубло», отяжелело, и молоко запеклось в сосках. А от Юркиных неумелых рук ей стало ещё больнее.
Ласка начала протяжно мычать и отходить. Юрка передвигался за ней, перетаскивая ведро и стульчик, но корову как подменили. На неё не действовали ни уговоры, ни ворчание дояра.
Вконец рассерженный мальчик сплюнул с досады: неблагодарная! — и отстал от коровы.
— Ну и холера с тобой! Хоть лопни, не подойду, — проговорил он и направился с полотенцем и подойником к фонарю, чтобы его снять и уйти.
— Юра! Юр… — воскликнула Людмилка.
— Чё тебе?
— Дай я попробую? Я маленько доила. Мамка давала.
Юрка остановился.
— А если она тебя потопчет? — спросил он.
— Не-а, не потопчет. Это ты не умеешь, вот она и не стоит на месте.
— Гляди-ка, умеха, — усмехнулся он. Но согласился: — Ну, на, попробуй, — подал подойник.
Девочка поддела ведро на руку, повернулась к окошечку, взяла с подоконника баночку с вазелином, кусочек соли и запела:
— Ласка, Ластёнушка, милая коровушка, я к тебе пришла, кусочек сольки принесла…
Корова подняла на неё большие блестящие на свету глаза и, как показалось Юрке, присмирела.
— …Сольку на тебе, а молочко дай мне, — Людмилка подошла к Ласке, погладила ей лыску[7].
— На, милая, ешь, а я тебя подою. Ладно? Стой, стой, Ластёнка, — легонько похлопала по скуле коровы, и та потянулась к её ручке. Слизнула кусочек соли.
Девочка приставила треножку, села под коровой и, прежде чем приступить к дойке, смазала вазелином соски и себе руки. Потом, сделав два-три примерочных движения — вымя было высоко, — начала дойку.
Ласка недоуменно оборачивалась на необычную доярку, но стояла смирно.
Девочка долго раздаивала соски. Уговаривала корову не жадничать и не капризничать, даже пообещала ей во-о-от такой кусок соли завтра принести. Но, однако же, молоко от её «завтраков» не сдаивалось. Пальчики уставали, но Людмилка всё же силилась, тянула соски, а голос уже срывался на плач.
— Ластёнушка, ну что же ты?..
Юрка подошёл к ней.
— Не реви. Передохни маленько, — участливо сказал он. — Она, ишь, долго не доилась, вот ей и трудно. У неё молоко жирное, маслистое, не то, что у других бурёнок. Вовремя не подои, спекается. Ты как, не замерзла?
— Не-а, — мотнула девочка головёнкой и, тряся пальчиками, опустила руки вниз.
Корова, обеспокоенная бездействием доярки, повернула голову и уставила на девочку черные, как мрак, глаза, как будто бы хотела спросить: ну, что же ты, доярушка?..
Людмилка поднесла кулачки ко рту, подышала на них, поразминала пальчики и, придвинув стульчик, потянулась к вымени.
Первая струйка ударилась о подойник чуть слышным звоном. Девочка несказанно обрадовалась ей и ещё усерднее стала тянуть поддавшийся сосок.
Вторую и третью струйки услышал и Юрка.
— Ай да Людмилка! — воскликнул он и тут же прикусил язык, корова повела на него настороженным взглядом, а сестрёнка приложила пальчик к губам.
Раздоенный сосок продолжал выдаивать Юрка — пальчики у Людмилки очень устали. Но теперь мальчик доил осторожно, предварительно смазав руки вазелином, и корова от него не уходила.
Передохнув, девочка села раздаивать второй сосок. Ласке становилось легче. Она уже дышала без подстанывания. Челюстями работала оживлённее, гоняя во рту жвачку, и время от времени всё норовила лизнуть маленькую доярку.
Людмилка недовольно ворчала:
— Да стой ты, не вертись!
Ласка затихала. Но потом вновь потянулась к ней, высовывая розовый язык.
— Да стой же ты, чудушко!
Но корова — её не зря называли Лаской — на доброту и ласку людскую тоже отвечала лаской. А маленькая девочка сейчас такая добрая, такая ласковая…
Мотнула Ласка головой, шлепнула языком по шубке девочки…
— Ой! — вскрикнула доярка и разом оказалась на полу.
Она опрокинула подойник и, испуганная, заревела.
Юрка, наблюдавший за ними, рассмеялся:
— Во, как Ласка тебя приласкала!
Корова, напуганная звоном ведра и вскриком девочки, отступила в сторону и уставилась на Людмилку в недоумении. Потом вздохнула, словно усмехнулась, и потянулась к ней. Девочка попятилась.
— Да не бойся, это она ластится к тебе.
Людмилка подняла подойник и сокрушённо покачала головой:
— Надо же, молока сколь вылила и меня вымочила.
Молока в подойнике было немного, но и того количества было жалко, поскольку досталось оно с трудом. Это было её первая самостоятельная дойка.
— Мамке расскажешь, как в молочной речке купалась.
Юрка сам сел доить. Но корова отчего-то вновь стала дергать ногой и отходить от него. Мальчик на неё заругался.
— Ладно, Юра, я сама, — подрагивая, сказала Людмилка.
Девочка стала зябнуть. Разлившееся молоко вымочило ей ногу и закатилось в левый рукав. Пока оно было парным, ей не было холодно, остынув, начало холодить.
Людмилка с уговорами, с прибаутками, какие слышала от мамки и какие могла придумать сама, продолжила дойку.
Ласка слушала, стояла тихо, пожёвывая жвачку. Но как только девочка раздоила очередной сосок, корова, облегченно вздохнув, мотнула головой – шлёп языком по шубке девочки! — и доярки на стульчике, как не бывало.
Тут уж не выдержал Юрка.
— Но ты у меня дождёшься со своей телячьей нежностью! — выругался он и намахнулся. Корова отшатнулась.
— Не надо Юра! — заступилась девочка, поднимаясь. — Она ведь не со зла. — И, подойдя к корове, стала сердито выговаривать ей. — Ты, Ластёнка, не шали. Зачем меня лижешь? Я же не твой телёнок, так и нечего меня лизать, — разъясняла она, поглаживая ей скулы, лыску, и, прижимаясь щекой к голове коровы, обиженно добавила: — Ты меня уже два раза со стульчика слизнула, молоко на меня пролила и мне теперь холодно. Ты разве этого не понимаешь? Вот как я тебя теперь буду додаивать, а?..
Корова слушала, хлопала глазами.
— Ладно, Людмилка, раздои последний. Я потом все разом выдою, — участливо сказал Юрка, чувствуя, что сестрёнка стала мёрзнуть по-настоящему.
Девочка взяла треножку и вновь уселась доить. Она опять что-то приговаривала, но слов её уже нельзя было разобрать. Слышалась сплошная дробь: д-д-д-д-д-д. Но Ласке, похоже, такая песня тоже нравилась. Она слушала её с закрытыми глазами. И, как только послышались звонкие струйки, оживилась.
Юрка был начеку. И опередил её намерение. Встал перед Людмилкой. Корова обнюхала его шубёнку, тяжело, как будто бы с обидой, вздохнула и отвернулась.
Юрка надергал из ясель сено, усадил в него сестру и вернулся к корове.
В деревне заглох дизель на подстанции, стало совсем тихо, и мальчик с грустью подумал: свет погас…
Долго ли коротко ли он доил, Людмилка не помнила. Она, уставшая, пригрелась в сене и уснула. Очнулась от звона подойника.
— Ой! И тебя слизнула? — изумилась девочка.
— Вот скотинка, а? — возмущался мальчик, поднимаясь. — Ты посмотри что творит, последнее молоко вылила. Ух! — намахнулся на неё стульчиком, но не ударил, а забросил его в ясли. Поднял ведро и сказал: — Пошли домой, ну её…
Людмилка, подрагивая, подошла к Ласке, похлопала её по ноге, шее, погладила по голове и сказала совсем по-взрослому:
— Глупая ты ещё, Ластёнка. Совсем ничегошеньки не понимаешь.
Корова облизала холодные пальчики девочки и тяжело вздохнула: может быть, она соглашалась с нею, мол, твоя правда, крошка, глупа я ещё, глупа… При этом прядала ушами.
Дети вернулись домой.
Брат помог полусонной сестрёнке раздеться, подсадил её на печь. Потом разделся сам, по-хозяйски развесил одежду, свой и сестрёнки зипунишки, выкрутил в фонаре фитиль до самого маленького огонька и залез к Людмилке. Она уже спала, подсунув натруженные кулачки под подбородок. Было тепло. Но он всё же получше укутал её одеялом.
Спи, умеха. Прижался к ней и вскоре забылся добрым и крепким сном.
Ласка тоже спала хорошо. Она не стонала.
[1] Зима, Шубу – населенные пункты в Иркутской области.
[2] Сени – холодный коридор или помещение при входе в избу.
[3] Стайка – помещение для скота.
[4] Куржак — намерзший от пара снег.
[5] Треножка – маленький стульчик на трех ногах.
[6] Ясли — кормушка.
[7] Лыска — передняя часть головы коровы, лоб.
***
Репетитор.
Вова сидел в детской комнате и, заучивая, бубнил:
— Однажды, в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз…
Стихотворение Н.А.Некрасова ему плохо давалось, может оттого, что устал, притомился. На улице уже вечер, а он, придя из школы, еще не отходил от стола.
— … Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз.
На кухне, через коридор, мама и младшая сестрёнка Томочка занимались каждая своим делом. Мама Галя готовила ужин, скоро должен был прийти с работы папа. Томочка причёсывала куклу Алёнушку, заплетала ей косички и привязывала к ним бантики. Девочка, казалось, была безучастна к тому, что происходит в соседней комнате.
Мама наоборот, слышала сына и переживала за него. Она уже однажды подходила к нему и предлагала передохнуть: пойти на улицу — за окном давно уже слышатся голоса детей. Но мальчик отказался. Теперь мама поглядывала в детскую и, вздыхая, говорила:
— Как много стали задавать уроков детям на дом.
Томочка соглашалась с мамой и тоже приговаривала:
— Нитё в коле не поняют. Тёха детик мутют.
— Не говори уж, доченька. Ничего в школе не понимают, только детей мучают, — перевела мама то, что пыталась высказать дочь.
Томочка ещё не совсем хорошо могла говорить. Нет, она бы, возможно, и говорила хорошо, но в силу своей необычной сообразительности, девочка не успевала словами за своими мыслями — они почему-то быстрее проносились в голове, чем успевали соскочить на язык, оттого её ломаную речь мало кто понимал. Только мама. Да ещё Алёнка. Она молчаливо слушает и преданно смотрит голубыми глазами на свою воспитательницу. Правда, бывают случаи, когда Алёнка тоже куражится. Бывает непослушной. Тогда Томочка сердится и воспитывает её на своём тарабарском языке. Томочка сама не каприза и не любит куражливых, и потому строга к своей ляльке, может даже наказать её, поставить в угол. Бывает, строгой даже с Вовой, хотя он и старше. Но уж такой у неё характер, серьёзный.
— Господи, некогда ребенку и отдохнуть, — вздохнула мама.
Томочка тоже вздыхает. Ей тоже жалко брата. И что он так долго учит? Тут запоминать-то нечего…
Девочка кладёт куклу на диванчик, накрывает простынкой и обращается к маме:
— Маматька, ти помотли за Лёкой, я подю Воке покоблю. Ляня?
Мама некоторое время смотрит на дочь, усваивая её речь, потом соглашается, улыбнувшись.
— Ладно, пойди, пособи Вове. А я посмотрю за твоей Алёнкой.
Вова заучивал:
— Откуда дровишки?.. Откуда дрова… дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу…
Сестрёнка подходит к брату, встаёт напротив него у стола, который едва переросла, и, сведя брови к переносице, строго спрашивает:
— Вока, ти потиму не моесь запонить? Вот как нядя. Отьняди, в тюдёнюю симнюю полю я… – и девочка без запинки прочитала первое четверостишие стихотворения.
Вова смотрит на сосредоточенное личико сестрёнки, его глаза выражают удивление: «Однажды, в студёную зимнюю пору я из лесу вышел…» — неужто этакий гномик смог так быстро заучить стихотворение? Он бьётся без малого целый час, и если запомнил чего, так самую малость. А эта…
— Ти поня? — спрашивает девочка.
Вова машинально кивнул головой в знак согласия, дескать, да, понял. И тут же затряс отрицательно головой — ничего не понял. Что тут поймёшь: тя-тя, тю-тю, полю-голю…
Томочка всплеснула руками.
— Ню, какой ти непонятий! — и вновь стала пересказывать стихотворение, причем теперь уже всё, от начала и до конца.
У Вовы глаза полезли на лоб — ему бы такую память!
— Ти поня? — вновь спрашивает Томочка, переведя дух.
Брат, улыбаясь, пожал плечами: что тут можно было понять, сплошное тарам-барам.
— Ню, как ти не моесь поня? — её черные глазки, словно росой омытые смородиновые ягодки, смотрят на брата недоуменно. — Воть мотьли: тьнек, — она показала ручонкой на сугроб снега за окном и на столе из книжки сделала наклонную плоскость, представляя её за воображаемую горку. На горку поставила ластик (стиральную резинку), а внизу под наклоненной стороной книжки поставила точилку для карандашей.
— Етя ти, — показала на зеленую пластмассовую точилку, — а етя лётятка и мутитёк с нокотёк, — показала на резинку. — Поня?
Вова кивнул в знак согласия — «это он, а это лошадка и мужичок с ноготок», — его стала забавлять эта игра.
А Томочка излагала стихами ею представляемую картину, ведя по книжке точилку.
Вова всё понимал. Понял, что где-то за горой в лесу отец мальчика рубит хворост, а мужичок с ноготок вывозит его.
— «Но, мёкия! — кикунь манюкиня баком, тьванюль подь утьти и бытей тятягаль.» Поня, как нядя утить?
«Но, мертвая! — крикнул малюточка басам, рванул под уздцы и быстрей зашагал», — мысленно перевёл мальчик скороговорку сестры. Но на её вопрос, — понял ли он, как надо заучивать? — отрицательно покрутил головой.
— Нет, не понял. Повтори.
— Ню, мёкия! — кикунь манюкиня баком… – вновь прокартавила Томочка. — Поня?
Вова пожал плечами.
Сестрёнка рассердилась.
— Ню-у, ти какой непоня-ятий! Мотли, — девочка теперь уже взяла ластик и покатила его по «горке». — Тьванюль подь утьти и бытей тятягаль. («Рванул под уздцы и быстрей зашагал».)
Однако Вова не понимал. Ну, ничегошеньки. И почему он такой непонятливый? — хмурилась девочка. Он так никогда не научится запоминать, если не будет представлять себе то, что заучивает.
А Вову забавлял лепет сестрёнки, её удивительная память и та настойчивость, с которой она пытается его чему-то обучить.
Какая она забавная…
У Томочки из глаз готовы были брызнуть слёзы. Ей вдруг показалось, что брат дразнит её и потому заставляет по нескольку раз повторять стихотворение. Тут ещё Вова отвалился на спинку стула, закинув ладони за голову, потянулся и, действительно, засмеялся. Может, это получилось не нарочно, от сладкого потягивания. Бывает же такое, потянешься, позевнёшь и потом от удовольствия улыбнёшься, а то и хохотнёшь. Однако девочку его поведение очень обидело и… Она вдруг схватила ластик и кинула его в лицо брата.
На, тебе, насмешник!
Мальчик вскликнул: — Ой! — и закрыл лицо руками.
Наступило молчание.
Вова, бывало, тоже обижал сестру, не больно-то спускал обид. И, вполне возможно, что сейчас он поддаст ей. А рука у него такая горячая!
Но Томочка не сошла с места, не убежала. Стояла, насупившись, и виновато крутила пальчиком о стол.
Но долго молчать она не умела. Томочка придвинулась к брату и стала жалеть его.
— Вовотька, я нетяйня… Вовотька, я больте не будю…
Она прижималась к нему, и всё норовила дотянуться до его головы, до его рук и разомкнуть их. Ей казалось, что он плачет. Она так сильно обидела его, так ударила его, что ему теперь очень больно.
— Вовотька, не пать… я нетяйня… — говорила она, позабыв про свой испуг. И она, быть может, тоже заплакала, и даже, наверное, громко от жалости к брату. Но Вова вдруг приоткрыл лицо и произнёс:
— Ку-ку! — и засмеялся, почесывая лоб.
Томочка обрадовалась, запрыгала вокруг него, прихлопывая в ладоши, и они стали друг над другом смеяться.
У девочки глазки просохли, и она посерьёзнела, готовая вновь приступить к занятиям.
— Ню, Вока, давай утить дайте, — сказала она серьёзно.
«Давай учить дальше», — перевёл мальчик.
Однако брат запротестовал, изображая испуг:
— Э, не-ет, Томик, спасибо! Уже научила, — продолжая почесывать лоб и усмехаясь. — Иди к мамке. Только резинку подними.
Девочка подняла с пола ластик, положила его на стол и убежала на кухню, довольная тем, что помогла брату и не получила от него подшлёпник за нанесённую ему обиду. Ну, а как ещё объяснять, если до него иначе не доходит?..
Мама Галя, заметив приподнятое настроение дочери, спросила:
— Ну что, помогла братику?
— Да, мамотька, — ответила девочка и занялась своей воспитанницей, Алёнкой.
Из детской вновь доносился бубнящий голос мальчика. Он читал стихотворение, но уже наизусть. Читал и всё же кое-где запинался.
Тогда из кухни доносился звонкий картавый голосок сестренки:
— В больтик тяпогах, в полютюпки овтин-нём… — подсказывала она, и Вова повторял за ней:
— В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок…