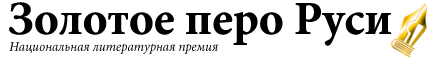Миронов Александр.
Два рассказа.
Русская удаль.
Иван Трофимович Топотков расхаживал по кабинету. С самого утра у него не выходило из головы вчерашнее застолье. Он был приглашен с женой на день рождения: начальник жены справлял своё шестидесятилетие. Народ собрался разный и незнакомый, какой-то сдержанный, молчаливый. Чопорная публика. Правда, потом, когда выпили раза по три и уже не шампанского, немного разговорились, расслабились.
«Если месяцами не выходить на люди, поневоле забудешь, как вести себя в обществе. Теряешь опыт. Дичаешь», — философски заключил Иван Трофимович, остановившись у телефона.
Хотелось позвонить жене, но он медлил. Что-то неясное томило душу.
Лучи солнца просвечивали сквозь редкую осеннюю листву деревьев за окном, и, отражаясь от линолеума на полу, зайчиками играли на потолке, на стеклянных дверцах шкафа, освещая рабочий кабинет Ивана Трофимовича.
Мда… Вспомнилось, как после четвертого или пятого тоста он сам выдал здравицу. Одна дама даже в ладоши захлопала, и её поддержали. Иван Трофимович кисло усмехнулся, дёрнув уголком пухлых губ, и вновь заходил по кабинету.
Потом танцы начались. Под магнитофон, импортный. Не танцы — кривлянье. Дергались, кривлялись один перед другим, как припадочные.
Иван Трофимович, будучи помоложе, к таким разминкам относился терпимо, иногда и сам принимал в них участие. Но с возрастом начал стесняться. Что-то находил в них дурственное, неприличествующее людям среднего возраста, к коим стал себя относить. Но сейчас, куда не глянь, везде паралитики: по телевизору, в кино, на дискотеках, и вот, на гулянках тоже.
В детстве, в школе был кружок художественной самодеятельности, и он в нём занимался. В нём же научился танцевать вальсы — вот где полёт, фантазия!..
— И-эх! — и он закружился.
Научился плясать «русскую», «флотскую чечётку». По крайней мере, дробить степ ещё не разучился, и ладони не отсохли.
Иван Трофимович вдруг подпрыгнул, подбоченился и, отстучав чечётку, пошёл по кабинету в пляс.
— Та-д, та-д, та-та! Та-та-та-та-д, тата!.. — аккомпанировал он сам себе.
Эх, были ж танцы на Руси! Куда что подевалось? Куда?.. Даже пьянки ради редко удается сбацать.
— Эх-эх! Эхма! — Иван Трофимович остановился у двери, вздохнул полной грудью и рассмеялся.
Всюду, где бы ему ни доводилось гулять в компаниях, всегда испытывал пламенное желание сплясать, станцевать нормальный танец под нормальную музыку. Душа так и рвётся из груди птицей. Так и хочется топнуть ножкой. Но не танцуют теперь, не пляшут, к сожалению, — сплошные папуасы. И что с нами происходит? Вот, дикость!..
Правда, вчера немного подергался.
— Вытащила, гиббониха! — не зло ругнулся Иван Трофимович на женщину, которая пригласила его на групповые припадки под чёрте что. Отказаться было неудобно, это была та, что хлопала в ладоши на его тост.
Думал, так и пройдёт всё веселье — в кривляньях и рокоте магнитофона.
Однако появился баянист, и разом вечер изменился. По крайней мере, для него. Вот тут уж он отвёл душу. Выдал по всей форме и «русского» и «цыгана»… А эти вихляют задами, дрыгаются, а под «русского» подстроиться не могут. Ноги словно шурупами к полу привернуты: туда-сюда, туда-сюда на одном месте.
— Ха-ха! Смех! — своё, русское не умеют, а папуасам подражают. Цивилизованный народ, называется. Сты-до-ба!…
Частушек не знают. Или уж сановитость не позволяет?
А он пел, и все пóкатом катались. Ржали, как лошади. Всех развеселил.
Иван Трофимович улыбался, почесывая лысеющий затылок.
И всё же душу томило смущение… Было в его поведении, наверное, что-то такое…
Но он уже вошёл во вкус приятных воспоминаний.
И-эх! Его тело вновь отпружинило вверх и мягко опустилось на согнутые в коленях ноги, и Иван Трофимович от двери к столу пошёл вприсядку.
— Хоп-хоп-хоп-па! Америку с Европой… Съели русского мужика?.. Ха, фига! Покажем мы ещё себя этим паралитикам. Хоп-хоп-хоп-па!
У стола подпрыгнув, выбил лихо дробь на мягком утеплённом полу и, приуставший, довольный, остановился, опираясь на крышку стола.
Фу-у… Красота!
Не-ет, что ни говори, а вчерашний вечер удался. Удался, ядреный корень! Спасибо юбиляру!
Нет-нет, никогда буги-вуги не смогут раскрыть души русской. Никогда! В вальсах, в плясках, в частушках она живёт. В них, ядреный корень! Забили, забарабанили дуристикой: бум-бум-бум по мозгам, и на тебя же ещё смотрят так, как будто бы ты питекантроп пещерный. Чудак, мол, дядя, нашёл что выкинуть…
Ивана Трофимовича с утра начинали разбирать сомнения в правильности своего поведения на вечере. Всё-таки народ чужой, представительный был народ. А он с плясками, частушками… Это, знаете ли, теперь не модно. А коли не в моде, значит, ты какой-то несовременный. С поздним зажиганием. То есть наивный простачок, Ванюша-дурачок. Кто там ещё плясал? Так, один-двое. А остальные? Посмеивались, в ладоши хлопали. А он, круженный, как только услышит гармошку, его будто кто подпружинивает, или под пятки горячих углей подсыпает. Не устоит на месте.
Тут на Ивана Трофимовича нахлынули сомнение, неловкость за своё поведение. А вдруг он и вправду чудик?
Топотков вновь хотел позвонить жене, узнать её мнение на этот счёт. Да не решился. Вздохнул с сожалением.
И что он там вытворял? Сидел бы уж, прижал бы… Жена, поди, от стыда из-за него там сгорает. Ведь все с её работы были.
Вдруг Иван Трофимович стукнул себя кулаком по лбу и замер. Ноги у него подломились, и он мешком осел на стул.
Каррраул!.. Он вспомнил! Он вспомнил, как лез к Кузьме Спиридоновичу целоваться!
— М-нн… — замычал он, схватившись за голову. — Тьфу!
Прошло минут пять в молчаливых страданиях.
Наконец Иван Трофимович поднял голову и, покачивая ею из стороны в сторону, с тяжелым выдохом изрёк:
— О-пу-пе-ел! — глаза его закатились. — Ещё на кой-то хрен к себе позвал. И не одного, всех!
Иван Трофимович знал за собой маленький грешок: когда подопьёт, так становится рубаха-парень с душой нараспашку — всякий раз что-нибудь да выкинет от простоты душевной. За что Вера Никитична уже не раз его благодарила. То-то ему сегодня будет!..
Только сейчас он понял, чтó его с утра томило. И вот отчего он не мог так долго насмелиться, позвонить жене.
Ну, танцор, допрыгался!
Всё бы он мог себе сейчас простить. Даже лобызания с Кузьмой… Тьфу! — с Кузькой, прости Господи. Сейчас, поди, обтирается, подхихикивает, старый пень. Но то, что от доброты душевной опять наприглашал к себе гостей — это уже чёрт знает что!
Топотков надолго замолчал, тупо уставившись в шкаф, на полках которого находились СНиПы, чертежи в папках, в рулонах. Но волна негодования на самого себя сходила, и в глазах появились проблески жизни. К тому же он находился в весёлой шкатулке, где долго не погрустишь. В ней играло солнце, разбрызгивая искры и зайчики по полу, по стенам, по шкафам.
— Дурак, ваша светлость! Вот где дурак так дурак! Каких век не видывал. Да хоть бы пьяным был в стельку…
Он действительно не был пьян до беспамятства. Но расходилась душа, разгулялась, и не столько от вина стал пьяным, сколько от охватившего его веселья, радости. Под конец вечера он всех любил: и юбиляра, и баяниста, и гостей — оттого и лез лобызаться.
А у нас как? Уж если ты обнял человека, да, не дай Бог, ещё позвал к себе в гости — так уж всё! Ты дурной человек, тряпка. Ты распахнул душу, а это такое место… куда только плюнуть можно!
Эх-хе, вот народ. До чего же мы огрубели, ни любви в нас не осталось, ни радости. Повыпотрошенные, деформированные. Даже жена родная не понимает. Тут от души, от чистого сердца. Разве это дурно?
— А может и плохо! — ответил он вслух. — Ведь гостей угощать чем-то надо. Это ведь неранешенное время. Сейчас, попробуй на такую зарплату? И потом — хлопоты. Жене хлопоты. Оттого и дурно.
Топотков поморщился и вышёл в цех. Выпил два стакана газированной воды и, воровато оглянувшись, — не видит ли кто, как он мучается с похмелья, — вновь вернулся в кабинет. Прохладная вода, несколько раз отрыгнувшись газом, родничком прокатилась по пищеводу, охладила разогретые внутренности и бушующие в них старые дрожжи.
Похмелье пошло на пользу. Прочистило мозги.
— Мнда… Погулял…
А позвонить надо. Иван Трофимович не помнил, гостей он приглашал при жене или без?..
— Видимо, без неё, — заключил он. — Конечно без неё. Теперь бы уж все провода оборвала. Ох, дубина…
Топотков всё надеялся, что позвонит жена. Сам же не решался.
Он представил, как всей компанией гости вваливаются к ним в квартиру. Разрумяненные на первом морозце, жизнерадостные.
— Здрасте! А вот и мы…
Ивана Трофимовича передернуло в нервном ознобе.
— И где она была? Не могла чем-нибудь трахнуть по макушке! Хоть домой не ходи.
Стоп! Вот это мысль. А что если и в самом деле домой не идти? Созвониться с Верочкой и махнуть куда-нибудь в кино или так часов до десяти погулять по улицам, в парке. Пусть те у подъезда посидят, померзнут на холодке. Ха! — посидят-посидят и умотают.
И хоть мысль была как будто бы удачной, спасительной, однако, нравственная сторона её задела Ивана Трофимовича. В ту же минуту восторг сменился на нерешительность, и палец, набиравший номер телефона, медленно отпустил диск на последней цифре.
— Алеу, — услышал он знакомый голос с мягкими интонациями.
Иван Трофимович, смущенный, прикрыл трубку ладонью, кашлянул.
— Говорите, вас слушают.
— Это я, Верочка. Доброе утро, то есть день.
— А, добрый, добрый. Как ты там? — в голосе прослушивалось сочувствие.
— Да так, ничего… Я как вчера?.. Перебрал, кажется? — у него повело челюсть на сторону.
— Да нет. Ты очень даже мило вчера выглядел.
— Ты!.. Ты серьёзно?!.
— Вполне. Давно таким не был. Душа всей публики. От тебя и сейчас все в восторге. Слышишь, приветы передают!..
Лицо Ивана Трофимовича засветилось от счастья, словно солнечный зайчик осветил его изнутри.
— Ага! Слышу! Всем там, приветик! — подскочил он со стула. — Так что, сегодня опять вечеринка предстоит?
— Где? — уже сдержаннее донеслось до слуха.
— Так у нас. Я… я ведь приглашал!
— Успокойся, Топотуша, — глухо сказала Вера Никитична, видимо, прикрыв трубку ладонью. — Они, что, думаешь, люди без понятия? Очень милый и деликатный народ. Ты знаешь, кого приглашать, — и в трубке послышался добродушный хохоток.
Топотков тоже засмеялся, даже с какой-то детской радостью, и притопнул ножкой.
— А то б встретились, а? Такая компания! Такие люди!
— Успокойся, Топотуша. Это уже не смешно, — и в трубке запикали короткие гудки.
Иван Трофимович на окрик жены осекся, и было присмирел. Но ненадолго. В душе у Ивана Трофимовича вновь всё заходило.
Разговор с женой, и её похвала, и одобрение её сослуживцев за вчерашний вечер, подействовало на него столь же благоприятно, как если бы он принял бокал шампанского или, на худой конец, пиво.
Топотков хлопнул в ладоши:
— И-эх!.. Расступись, грязь — в пролётке князь!.. Ядрёный корень… — и пошёл по кабинету под «камаринского»…
Даже будучи в столовой в обеденный перерыв, стоя в очереди у раздатки, глядя на всех весёлым взглядом, ему так и хотелось топнуть ножкой. И сокрушался: до чего же всё-таки мы скучно стали жить! Собираемся раз в год, а то и в два, и то по каким-либо поводам, случайно. Негде грудь развернуть, душе волю дать…
Э-эх! Умрёшь от скуки.
***
Нечисть огородная.
Дед Кузьма Кузьмич, или Кузя Кузич, с утра собирался копать картошку. Ещё с вечера приготовил кули, ведро, лопату. Сложил в кирпичном сарае, который находился на окраине посёлка среди гаражей. Но, как назло, хоть и рано поднялся, а в поле не ушёл. Боли в пояснице то намерение изменили. Едва к полудню раскачался.
— Кузич, ты уж седня-то не гоношился б, — отговаривала его Вера Карповна, жена. — На неделе когда б… Мне, глядишь, полегчает.
— Нет, мать, пойду. Покопаю, сколь смогу. Седня мешочек, завтра другой, послезавтра. Так, глядишь, и выкопаю. Не то кто другой подсобит. На фордопеде привезу мешочек, не надорвусь.
Боялся старик, что на их огород тоже нападут жучки, как на некоторые соседские участки. Но жучки не колорадские, от которых хоть как-то, с трудом, с помощью химических препаратов, справиться, однако, можно или, на худой конец, простым сбором личинок с кустов. А воры, жуки-бекарасы, — как называл он, — против которых нет других способов, как бить на месте и насмерть. Да и тут еще вопрос: пришибёшь, самого же и посадят, за своё собственное. Или, от греха подальше, выкапывать картошку раньше сроку от чужого соблазна и для собственного спокойствия.
Как можно лезть в чей-то огород и копать чужое? Может у этой семьи на эту картошку последняя надежда? Об этом бекарасы думают? Вот обери их с Карповной, и всё — ложись и заживо помирай. Убийцы, да и только. Тут пенсия — хуже милостыни, да ещё молодым пособляешь, сидят без зарплаты, и без картошки!.. Эти твари пострашнее колорадских и майских жуков будут.
На днях Архип сказывал. Дескать, сын его, Вовка, на мотоцикле приехал со своим парнишкой к себе на дачу. Копают. Вдруг подъезжает КАМАЗ-самосвал, выходят из него трое с лопатами, и на дачу соседа. Тоже копать прилаживаются.
«Вы что это, ребята, заблудились? Это же не ваша дача?» — говорит Вовка парням.
«А ты, мужик, говорят, помалкивай. Не то самого копать заставим, и не в свои мешки».
А Вовка не сробел. Вытащил из люльки бутылку с бензином, энзе неприкасаемый, и к ним.
«Если, говорит, вы отсель не уберетесь, я этой бутылкой об машину и подожгу».
Те было к нему, а он и замахнулся. Ну, те пошептались промеж себя, в машину и отъехали на другой край поля. Там пристроились. И без номеров машина. Не узнаешь — чья, откуда?..
Вот и помешкай. Останешься без картошки.
Бабка Вера Карповна прихварывала. По дому ещё ходила, а уж в поле идти не осмеливалась. Да и дед не велел. Оберегал. Сам же гоношился. Хотя при таких болях, обычно, откладывал всякие дела и ложился под горячие кирпичи — первое дело. А уж после — мази. Но тут, словно кто подгонял сзади.
К полудню Кузьма Кузьмич, поскрипывая на своем «фордопеде», как он в шутку прозывал велосипед, покатил в поле. В пояснице тоже поскрипывало, потягивало тихой и нудной болью.
К раме была привязана лопата, к багажнику — ведро и мешки. Взял всё же семь кулей, зять с дочерью обещались к вечеру подойти. Может сегодня хоть половину или треть дачи выкопают.
Огород его, по-местному — дача, находился километра за четыре от посёлка, среди других таких же огородов, засаженных картофелем. У кого — и капустой, морковью на грядках. У некоторых даже парнички, теплички стоят. У тех, у кого, видать, есть время караулить и здоровье позволяет.
На поле участки были не огорожены, только кое-где торчали колышки или столбики. И почти никого не видно. Лишь в метрах полутораста от основной дороги стоял грузовик «КАМАЗ», и аккурат там, где была его дача.
«Наверное, сосед тоже решил картошку выкопать? — подумал дед. И обрадовался: — Может, и мою вывезет за одно?»
Съезжая с дороги на свою улочку, ударил по тормозам.
«Ах, мать честная! Да это ж его картошку копают! Ошибся Костя, что ли?..»
Присмотрелся, нет, не сосед. И не его ребята. Незнакомые.
Мелькнула страшная догадка. Ах, растуды-сюды!..
И едва не бросил руль от растерянности. Сошёл с велосипеда.
На участке стоял мешок, наполненный наполовину, и двое парней. Один был в голубой футболке местами в пятнах от мазута. Другой — пониже ростом, в светлой майке с каким-то чудовищем впереди, во всю грудь и живот. Он ссыпал из ведра картошку. Клубни были крупными — старик заметил.
И у него занялось сердце — такая картошка! Да они что, совсем что ли?!.
«Ну, я вас!.. — взвился дед, и стал торопливо отвязывать от велосипеда лопату. — Ну, бекарасы, сучьей расы!..»
Парни приостановили работу, завидев на дорожке человека. Он шёл на них с лопатой в руках, как в атаку. Тот, что ссыпал картошку, с чудовищем на груди, отвёл руку немного назад, держа ведро за дужку — понятно, для замаха. Отчего и зверюга ужасный на майке широко и хищно окрысился. Второй подельник, бросив пройму мешка, отступил к своей лопате, воткнутой в землю. Оба не показались смущёнными, оробевшими. И тот, что подался к лопате, криво усмехнулся, похоже, вид щуплого, приземистого и седого человека его не испугал, а скорее даже насмешил своей воинственностью.
Они встали друг против друга — двое и один — и молчали.
Прошло секунд десять-пятнадцать. Но это было такое время, за которое деда Кузю не раз окатило и холодной и горячей волной.
Наконец дед выдавил из себя осипшим голосом:
— Ну, как картошка, ребята?
— Да ничо, копать можно.
— А это… мне можно?
Ребята оживились.
— А мы думали, ты хозяин!
— Не… Я так, — и замигал глазом, зачесался, — подкопать…
И тот, что стоял с ведром, тоже подмигнул, как подельнику. И зверь на нём как будто бы тоже расслабился, прикрыл оскал.
— Да, пожалуйста, — сказал он, обернувшись на товарища, — нам не жалко.
— А-а откуда, это, начинать? — и, что самое удивительное, отчего-то спросил пониженным голосом, заговорщицки.
— Да где пристроишься.
Фу-у… Кузя Кузич облегченно вздохнул, прокашлялся. Смахнул с глаз слезу.
Ну что же, раз драться не стал, надо по-другому как-то. Картошка-то не чья-то, своя, выручать хоть что-то надо.
Дед осмотрелся. Парни копать начали недавно, только второй рядок распочали. Значит, — раз, два, три… — чтобы накопать два-три мешка, им понадобится шесть-семь рядков, прикидывал дед. А вдруг они замахнулись кулей на десять? Картошка-то, эвон какая! Что ни куст — полведра.
Тот, что вынимал ее из лунки, заезжал в землю растопыренными пальцами, как вилами, и вынимал в пригоршнях гнездо — клубни не помещались в них. Тут же отсеивал: мелкая — обратно наземь, а крупная — в ведро.
Ой-ёй! Так всю дачу перепашут. Оставят на зиму без картошки!..
Кузьма Кузьмич прошёл к седьмому рядку и воткнул в него лопату.
— Ребята, если я отсюда начну? — спросил он, с силой надавливая на заступ лопаты ногой. Словно утверждая границу, от которой, чувствовал, не в силах сдвинуться.
Пока находились в воинственном противостоянии, в голове мелькнула одна-единственная, как показалось, здравая мысль, и он последовал ей. По другому — значит, биться насмерть. Так они не уйдут. И кому здесь больше достанется — это и гадать не надо. На твоём же поле и закопают. Теперь он был одержим другим — лишь бы они не заподозрили в нём хозяина дачи.
Парни на его вопрос оглянулись, оценивающе осмотрели отведенный им участок, прикинули, видимо, что будут иметь с него, и тот, что подкапывал, согласно кивнул:
— Валяй.
Второй поддакнул:
— Не хватит — найдём, где подкопать. — И зверь на его груди как будто миролюбиво усмехнулся.
И они принялись за прерванную работу.
Кузьма Кузьмич хмыкнул, глядя на их спешку и со злорадством заметил: «А побздёхивают, однако, бекарасы…»
Дед сбегал к своему «фордопеду», подкатил его ближе к даче, к КАМАЗу, и стал торопливо отвязывать от багажничка ведро и мешки. Как на зло, с чего-то затянулся на веревке узел. Еле распутал, язви его!
Вернулся и схватился за лопату.
В молодости он обычно подкапывал сам, собирали картошку жена и дети. А их у него трое, но рядом, то есть в посёлке, живёт только дочь с зятем, с двумя внуками — ещё малыми, один только в первый класс пойдёт. Теперь же подкапывал зять, или кто-нибудь из сыновей, приезжавших к этой поре на помощь, а он уже занимался подбором клубней, ползая на четвереньках. Они бы и в этот год приехали, потерпи дед с копкой недельки полторы.
Да где там, потерпишь тут! Вона как пластают, жучки-бекарасы. И ничем не сгонишь, никакой отравой. Может подкрасться, да вдарить сзади лопатой по шеям?..
На этот раз дед копал картошку и собирал сам.
И как копал! Скакал по грядкам, как кузнечик. Копнёт лопатой и тут же падает на четвереньки. Копнёт — и на четвереньки. И руками, руками…
После двух вёдер, которые вначале набирал, стал клубни вываливать на бровку между рядами. Потом собирать будем! Потом…
Работал, исходя пóтом, едва не скуля от отчаяния. Так он никогда не копал: ни в молодости, ни в зрелом возрасте, не чувствуя ни усталости, ни боли в пояснице. Враз отлегло.
Прошло около часа, может чуть больше, дед как-то не сообразил засечь время, но по солнышку — около того. И увидел, что парни как будто бы закругляются. Три мешка нагребли. Стали их в машину, в кузов забрасывать.
Будут ещё капать или нет?
Дед призамедлил работу? Стаял на коленях и глаз с них не спускал.
Забросив последний мешок, парни повернулись в его сторону. Чему-то усмехнулись, о чем-то переговорили и направились к нему. И ведро прихватили.
Неужто за его картошкой?..
Шли обочь участка, с усмешками на лицах. А у него подрагивали губы, готов был расплакаться от бессилия перед вероломством.
О-о, бекарасы! У-у-у… И на всякий случай дрожащей рукой лопату к себе подтянул.
— Ну, дед, ты и даёшь! Ну и наворотил! И картофелекопалку не надо. Что, решил весь рынок картошкой завалить?
— Во, конкурент! — воскликнул тот, что заведовал ведром, и на груди чудовище как будто бы тоже ощерилось.
— А что в мешки не собираешь?.. Помочь? — спросил второй, повыше, в замазученной футболке.
Кузя Кузич аж обсел на задницу. Рот раскрыл, а сказать ничего не может. То ли от усталости дар речи потерял, то ли так тронуло дружеское участие?
— Ладно, давай по-быстрому поможем, и сматываемся. Иди, держи мешки.
Пока копал, усталости вроде не чувствовал. Тут же все суставчики захрустели, поджилки затряслись. В спину опять радикулит ступил, язви его.
Ох-хо, вот наказание!..
Парни двумя ведрами, своим и его, стали собирать картошку.
— Тебе как, с мелочью?
— Крупную, крупную… — хотел добавить, что мелочь он потом соберёт, без их помощи. Но смолчал.
Встав на ноги, он оглядел участок и немного успокоился. Парни выкопали меньше сотки, даже не дошли до его рядка, с которого он начал копать. И удивился: вот это да! — он, один, вдвое больше перекопал, чем они на пару.
Мешки он сам завязывал, не стал обременять парней, хотя пальцы едва сгибались.
И, оказалось, — напластал как раз семь мешков! Как задумывал! И помощь сыновей и зятя не понадобилась.
— Ну и ну, дед! С тобой можно на дело ходить, не прогадаешь. Тебе домой? Или сразу на рынок?
— Нет, домой. Там уж… — неопределенно махнул рукой, дескать, видно будет.
— Ну, давай, подвезём, так уж и быть.
Парни лихо забросили его мешки и велосипед в кузов.
Поехали.
Дед Кузя Кузич сидел в середине, между парнями, и смотрел рассеянно на дорогу. И чему-то усмехался, мотал головой, словно стряхивал с неё паутину.
— Вы-т, наверно, сразу на рынок? — спросил он.
— Нет, — ответил водитель, тот, что подкапывал лопатой, и стал объяснять со знанием дела: — Такой товар, дед, надо лицом показывать. Сейчас домой, в ванной обмоем, на балконе просушим, а завтра утречком на рынок.
— Сами торгуете или помогает кто?
— Помогает. Самим некогда.
«Оно понятно, чем заняты,» — усмехнулся дед, и почувствовал, как этот смешок шевельнул в нём какое-то странное чувство, напоминающее зуд, только внутренний, где-то под желудком, отчего захотелось хохотнуть и икнуть одновременно. Икнул. А смешок остался.
Кузьма Кузьмич попытался заглушить его матерком. Пожевал губами.
— И не жалко вам тех, у кого картошку выкапываете? — в голосе деда прослушивались нотки душевной боли. Но его оборвали.
— А тебе?
— А что мне? — не понял дед. — Я…
— Хма, мы не ты. Мы совесть имеем, — сказал парень на пассажирском сидении. — Мы полностью участки не выпахиваем. Два-три мешочка и шабаш. Людям тоже жить надо… — И не совсем дружелюбно посмотрел на деда, чем-то напомнив взглядом своего зверя на груди. — Это ты, вон, как оборзел. Ископал у людей весь участок. — И отвернулся.
Дед на полуслове поперхнулся.
Ха! — его же и отлаяли. Ты смотри, какая сознательность…
Крутанул головой и почувствовал, как злость и негодование на парней как будто бы приугасли. На глаза даже отчего-то слеза выступила. И эти чувства ещё больше обнажили внутренний зуд. Кузя Кузич, задавливая подпирающий хохоток, наполнился воздухом и выпустил его неаккуратно.
Пассажир посмотрел на него, но мягче, дернул уголком губ.
— Что, старый, расслабился?
— Ага, — шмыгнул носом Кузя Кузич и спросил, чтобы как-то отвлечься от своего внутреннего состояния: — Машина с ремонта или только что купили?
— Да нет, старая.
— А чё без номеров?
— Хм, посмотришь на тебя, старый, вроде бы не новичок в картофельных делах, а таких вещей не понимаешь. Кто ж на дело идёт с номерами? Сейчас вот и повесим.
Выгружали картошку у сарая. Даже внести помогли. Тот, что отлаял, снисходительно посоветовал напоследок:
— Ты, батя, («Ага, сынок нашелся!») больно-то не наглей, совесть имей. Постольку с одного участка не копай. Поймают — больно бить будут. Ты на руки хоть и шустрый, да на ногу можешь не поспеть, — хохотнули. — Ну, пока. Не поминай лихом.
На прощание «чудовище» на майке «сынка» как будто опять ощерилось и подмигнуло глазом.
И укатили. Оставили Кузю Кузича в смешанных чувствах.
Воры, паразиты, жуки-бекарасы! — а вот, вишь, как. Прибить их мало, и в то же время рука не поднимется, вроде бы и не за что: и картошку ему нагребли в кули, и подвезли, и отчитали. Все как будто бы в меру.
Как с ними бороться?
Шёл домой, смеясь и плача.
— А никак, — сказала Вера Карповна, когда он рассказал ей, как вместе с бекарасами у себя самого картошку воровал.
Он лежал на диване, а она ставила ему на спину, на вафельное полотенце в три слоя, нагретые на газовой плите два обломка кирпича. От ударного труда на воровском поприще радикулит ещё более обострился.
— Кузич, ты у меня мудрый человек, за что я тебя люблю и уважаю, — продолжала успокаивать жена. — Правильно сориентировался. Ну, вот заерепенься ты? И что?!. Разуделали бы тебя под орех, ни в одну скорлупку не собрали бы. Слышь, что Сергеевна сказывала? Приходила проведать давеча. В районе одного мужика на своём же огороде закололи вилами. И найти не могут — кто!
«Сейчас это запросто» — подумал Кузьма Кузьмич, вспомнив парней при первом знакомстве, и тоскливое чувство одиночества и бессилия перед ними вновь пронзило его. И почему-то не сами парни стояли перед глазами, а чудовище, оскаленное, с острыми зубами, нелепо сидевшее на майке одного из парней.
— Нужна была бы мне такая картошка. Плюнь! И не жалей. Может, ещё больше заплатил бы, если бы нанимал машину? Счас цены-то… Ладно, больше пропадало, — отмахнулась Вера Карповна.
И все же жалко было те три мешка. Даже, пожалуй, нет, не так жалко, как досадно. Ведь в наглую обворовали, но в то же время – помогли, и проехали по сознанию моралью. Вроде и обидеться не за что, и в тоже время как какая-то насмешка.
Тьфу! Тьфу на вас!..
Кузьма Кузьмич сквозь зубы потянул в себя воздух с шумом, преодолевая вновь подпирающий смешок.
— Что, припекла? — всполошилась Карповна.
— Да нет… так…
А мозг точили раздражение и досада на себя, на свою трусость (может мудрость?), злость на этих бекарасов, и в то же время это было что-то другое, что вызывало иронию, сарказм, смех. Как будто бы какой-то мохнатый жучок вполз в сознание, и теперь щекотал, зудел, и этот зуд и припекающее тепло на спине все более проникали вовнутрь, раззадоривали.
Дед стал подкрякивать, подкашливать, втягивать воздух сквозь стиснутые зубы. И, наконец, затрясся в неудержимом хохоте, похожем на стон.
Со спины скатились кирпичи.
— Што, прижарила-таки, да? — Вера Карповна засуетилась вокруг него, прихватывая кирпичи тряпкой. — Да что с тобой? Плачешь что ли, Кузич?
«Ржу-у!..»
Кузя Кузич ей ничего не ответил. Он зарылся лицом в подушку, пытаясь заглушить в себе то идиотское чувство, выдавившее из него не только хохот, но и слезы, которые стыдно было показать; слезы, смешанные с отчаянием, беззащитностью.
Тьфу, тьфу на вас, нечистая сила! Чтоб вас…
Вот жизнь пошла — цирк!
Завтра же надо докопать картошку!