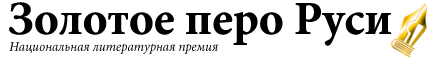Александр Миронов.
Самый счастливый день.
Яков Иванович Седых не имел ни одной награды, хотя все четыре года он был на войне, варился в ее горячем котле, погибал и чудом воскресал. Это уж потом, с годами, стали ордена и медали слетаться к своему герою, украшать его грудь. А до этого, за войну… похоронка за похоронкой, сохранившиеся у родных на божничке, за иконкой — всё его отличие за ратный труд.
Первую похоронку семья получила в августе сорок первого. В ней сообщалось, что Яков Иванович Седых погиб смертью храбрых на Украине, на высоте 148,7. Яков Иванович и в самом деле был в том бою но смерть его не взяла. Полуживого солдата спасли местные жители и выходили. А потом партизанский отряд, где Яков Иванович также воевал и где тоже был не раз на грани жизни и смерти. Позже, контуженным, он попал в плен, а затем перемещен в концентрационный лагерь близ города Штокенброк. И потянулись долгие дни и месяцы в мытарствах по лагерям: немецким, а после победы — американским и советским.
…В сентябре тысяча девятьсот сорок седьмого года по дороге, бегущей меж широких полей, невысоких лесистых взгорков, через темные овраги, пахнувшие прелью и прохладой, шёл человек. Шагал, не торопясь, с посохом из сухостоины в руке и с тощим вещмешком за спиной. Одет он был в шинель, в гимнастерку, в солдатское галифе и в сапогах. На голове шапка с пятном от звезды. Путь его был долгим, и он, похоже, уже притомился. После каждого километра пути путник приостанавливался, присаживался на какой-нибудь пенёк или сушину и задумчиво курил, оглядывая знакомые и призабывшиеся места родины. Особенно долго сидел он у черемушника и под раскидистой ивой, что нависла над речкой Тугояковкой. Долго они манили к себе, жили в памяти. Подтапливали сердечным теплом, пылкой нежностью и страстью. Здесь, под этими ветвями, живёт его первая любовь… А сама она — любимая, желанная — в деревеньке тут, в Сураново.
*
В доме старой Амосихи шло веселье. Она выдавала дочь замуж во второй раз. День катился к вечеру, когда на лавку у заплота присел притомившийся путник. Положив палку на ноги, он достал кисет и, не торопясь, стал скручивать цигарку. Из дома из открытых окон доносились голоса, а кто-то зычно, перекрикивая всех, доказывал, что у него вино горше, чем у других.
— Нужно подсластить! Анна, Игнат — горько!
— Горько!..
Молодые, видимо, стеснялись и долго не могли выполнить просьбу. Но потом голоса ненадолго стихли, и вновь оживление с одобрительными возгласами:
— Молодцы!.. — что означало всеобщее удовлетворение.
Из воротец часто появлялись соседки и бежали по домам. Возвращались обратно кто с чем: кто со стряпней, кто с овощами, кто с самогонкой. Прохожий старался на них не глядеть, чтобы не смущать сельчан своим присутствием. Сидел понурый, погруженный, как видно, в невеселые думы.
Однако он не остался незамеченным. Видимо, кем-то предупрежденная, мать невесты, старушка, худенькая телом, добрая душой, сама вышла к нему и упросила войти в дом, не погнушаться столом и разделить их радость. Тот начал было отказываться, дескать, он тут случайно, у него дальний путь и неудобно стеснять честную компанию…
Но его возражение ещё больше распалило старушку.
— Случайный прохожий, касатик, — это к счастью. Примета такая.
Прохожий согласился, но с одним уговором, чтобы хозяйка не сажала его со всеми за один стол, а угостила где-нибудь в кухне.
За перегородкой под часами-ходиками сел гость на крашенную лавку. Шинель, шапку повесил у входа на вбитый в стену деревянный костыль, там же оставил вещмешок и палку и теперь, повернув седую голову к простенку, смотрел на семейные фотографии в деревянной рамочке, некогда умело вырезанной мастеровой рукой хозяина, давно покинувшего этот дом.
Хозяйка поднесла граненую стопку, поставила пельменей в глиняной чашке и тарелку салата из наструганной свежей капусты с луком.
— Выпей, касатик. Выпей за здоровье молодых и закуси.
— Спасибо, мамаша. За здоровье, так за здоровье.
Голос у гостя глухой, сипловатый, как у простуженного.
Выпив, он поморщился.
— Ну, вот и хорошо, — похвалила старушка. И спросила: — Ты вот назвал меня мамашей, а сам-то намного ли младше будешь? Как прозывают?
Тот замешкался было, ткнул вилкой в капусту.
— Иваном, — ответил гость. И, чуть помедлив, добавил: — А старят, мамаша, не только годы.
Она понимающе, по-утиному покивала головкой, повязанной в платочек, и заторопилась.
— Ну, ты, касатик, кушай. Што надо, я тут.
Гость ел не спеша. Хлеб отламывал кусочками от ломтя, клал в рот и жевал его медленно. Также медленно ел пельмени.
Предоставленный самому себе, гость вновь погрузился в просмотр домашних реликвий.
— …Эй, дядя, ты часом не оглох?
Гость очнулся и медленно повернул голову. Старушка стояла перед ним с наполненной стопкой.
— Выпей, касатик, ешо… — сказала и осеклась. В глазах «касатика» стояли слезы.
— Спасибо. Больше не могу, — и кивнул на фотографию, где стояла пара молодых первого брака. — Дочка-то за второго выходит?
— За второго, касатик, — ответила хозяйка, приложив к губам уголочек передника.
— А где же тот?
— Игде? Там, на войне где-то… Хороший малый был.
— Погиб, значит?
— Погиб. — Она тяжело вздохнула и быстро-быстро заморгала, сгоняя с глаз слезу.
Вышла на кухню невеста. Красивая, ладная, с голубыми глазами — как небо! — в светло-синем ситцевом платье… У Ивана зашлось сердце, смежились веки.
Невеста глянула на седой ежик незнакомца, на изрытое оспой и старостью лицо и вначале будто бы притихла, словно натолкнулась на что-то знакомое. Однако согбенная, тощая фигура в полувоенной форме отогнала смятение.
— Ты пошто не пляшешь, Аня? Аль подать чего надо?
— Нет, мама. Ничего не надо. Душа моя неспокойна. Вот как будто какая тревога мает что ли… Нужна была эта свадьба… — отмахнулась рукой.
— А как же, Анюта?..
— Эх, мама… — Анна прижалась к матери, поцеловала в голову. — А плясать-то тут не под что. Нет моего игралюшки, и никто не постелет мне пол красным бархатом… — И, пошатываясь, вышла на улицу.
Старушка всхлипнула в передник, отёрла глаза и сказала гостю:
— Плоха у нас ныне свадьба. Через силу. А выходить ей надо. Малый без отца растёт, дом жухнет. Тут путный мужик нужен, здоровый. — И вдруг спросила: — Сам-то ты чей? Откуда и куда идёшь?
Гость задумчиво ответил:
— С войны иду.
— Дык она когда закончилась.
— Война-то кончилась, да не для всех разом. Кое-кому пришлось и после войны за себя повоевать. В плену я был у немцев. Потом у американцев. Фашисты — в тифозных бараках морили, те — душу мотали. Потом свои разбирательство вели почти полтора года. Вот оттого и призадержался.
— Ну, а семья-то есть?
— Была… когда-то… — гость замялся. — Хожу, ищу.
Старушкины глаза всё зорче приглядывались к незнакомцу, и тень не то недоумения, не то сочувствия проходила по её лицу.
— А скажи-ка мне, касатик, может ли быть такое, чтобы человек на войне пять разов погибал?
— Может, мамаша. Может. И пять, и десять…
— И в живых остаться?
— Всякое может быть… — пожал он плечами, глядя в окно — во дворе у черёмухи стояла невеста. Он вздохнул и добавил: — На войне чего только не может быть…
В горнице плясали под «хромку». Гармонист фальшивил, то сбивался, то затягивал такт, а то и просто наигрывал на одних басах.
— Неважнецкий игрок, — заметил гость.
— А, Ромка, Ефима сынишка, играет. Не умеет ладом. Сам-то Ефим не может, руки нет. — И с грустью добавила: — Наша-то «тальянка» сколькой уж год без хозяина скучает. А бывалыча… — Сверкнула влажными от нахлынувших воспоминаний глазами.
Вышел жених. Невысокого роста, но ладно скроенный крепыш. Недурен лицом. В костюме, в петлице которого сидела головка белой розы, едва начавшая распускаться. В хромовых сапогах.
— Ма, где Анюта? — спросил он, снисходительно глянув на «шилом бритого» незнакомца — пусть потчуется, коль зашёл.
— Во двор вышла, — кивнула старушка в сторону выхода.
Игнат вышел в сенцы и, протопав чечёткой по ступенькам крыльца, подошел к Анне. Его рука было приобняла за плечи невесту, но она отстранилась.
Гость отвернулся.
— Так говорите, мамаша, некому сыграть на «тальянке»? — вдруг спросил он.
— Нет, касатик, некому. Счас всё на трехрядках наяривают, да на гитарах.
— А если я попрошу, дадите попробовать? — И, видя, как хозяйка не то растерялась, не то засомневалась, добавил: — Когда-то, помнится, играл. Может, и сейчас не оплошаю. Может, и харч ваш оправдаю, повеселю компанию.
— Так пошто, касатик, нельзя? Попробуй. — Она с оглядкой на гостя пошла в горницу и через минуту вернулась со сверкающей перламутром гармонью.
Гость принял её, нежно огладил бока. Глаза его заблестели. Осторожно расстегнул мехи и, надев ремень на плечо, пробежал по кнопочкам голосов узловатыми пальцами. Смежив веки, склонился ухом к инструменту. Гармонь растягивал медленно, чтобы только самому слышать поющие звуки.
Заслышав слабый перебор, тихую мелодию тальянки, из горницы стали заглядывать любопытные. И с интересом и ожиданием они посматривали на незнакомца, дивясь тому, что отыскался-таки человек, умеющий играть на некогда горячо любимой за весёлый нрав гармони, теперь забытой, оттеснённой трехрядками и гитарами, а большей частью — по причине гибели на войне задорных игроков.
Пальцы плохо слушались. Чувствовалось, что человек давно не брал в руки гармони, не спешил, осваивал, привыкал к кнопочкам. Пожилая хозяйка стояла у русской печи, сложив руки на худой груди. С чувствительным ожиданием вслушивалась в нестройные звуки — мелодия будоражила память.
Потом послышались звуки задорной «Семеновны».
Тут выбежала из горницы бойкая на острые частушки бабёнка, гость по голосу узнал её, и потянула гармониста в горницу.
Плясали все. Пела и задорно отбивала каблуками Варвара — так звали песенницу. В паре с ней топал «громогласный» мужик, бухая сапогами. Пустой рукав военной гимнастерки, выскочивший из-под ремня, мотался из стороны в сторону. Ромка, мальчик лет тринадцати, притих возле ожившей «тальянки» и с жадностью и завистью наблюдал за пальцами гармониста.
В горницу вошла Анна, и в растерянности или в предчувствии чего-то необычайного остановилась у косяка двери.
Как только «тальянка» стихла, Анна подалась было вперёд, но гармонист отвернулся. Варвара не дала поставить «музыку», присела перед гармонистом горлицей и, обняв гармонь, словно воркуя, стала упрашивать:
— Дядя Иван, милый, дорогой, поиграй, поиграй ещё. Так давно от души не плясали, не пели. Будь ласка, а?
Её хмельной бархатный голосок будто тронул сердце музыканта, он согласился.
Уловив мелодию, Варвара запела первой:
То не ветер ветку клонит.
Не дубравушка шумит…
Песня ещё не закончилась, когда Анна присела перед гармонистом, приобняв «тальянку». Но тот вдруг встал, сдернул с плеча ремень и поставил гармонь на свой табурет. Чуть заметно поклонился, попрощался с публикой и, сутулясь в неловкости за причиненное беспокойство, вышел из горницы.
Старушка, вытирая передником глаза, норовила остановить гостя. Старалась перехватить его взгляд, чем-то услужить, лишь бы услышать от него ещё хоть одно-единственное слово. Ей казалось, что прежде она недопоняла, не уловила чего-то такого, что помогло бы ей разгадать этого человека.
Анна вышла на кухню. Сквозь туманную зыбь следила за незнакомцем, припав грудью к углу печи. И суета матери, и поспешность гостя — как наваждение, как сон. И нет сил вмешаться, остановить путника. Оторопь и тревожное чувство чего-то неуловимого, но до боли ранящего сердце, отняли их.
Незнакомец вышел из дому. Опираясь на палку, торопливо прохромал через двор и скрылся за воротами.
Мать невесты растерянно оглянулась, удивлёнными глазами обвела гостей, сгрудившихся у дверей горницы и на кухне, остановила недоуменный взгляд на дочери, как бы спрашивала: что это было и кто это был?.. Анна стояла, не замечая ни жениха, пытающегося отвлечь её, ни гостей. Она смотрела в окно на удаляющуюся сутулую фигуру.
— Аня! — вдруг вскрикнула мать. — Анна?!.
И этот крик, как толчок, вывел дочь из оцепенения. Сердце всколыхнулось. Безрассудно повинуясь его силе, его порыву, выбежала из дома. Мелькнула за окном и, разметав где-то за оградой туфли, бежала босиком по пыльной дороге.
— Яша-а! Яшенька-а!.. — услышал Яков Иванович за спиной и обмер.
Голос был тот, родной, который слышался во сне, в бреду, что грезился наяву, заставляя бороться, требуя выжить. Голос, на зов которого он столько лет шёл, который долго ждал и жаждал услышать. И вот он! Остановись, обернись…
Яков Иванович будто попал в бушующий поток. Ноги с трудом повиновались, и что ни шаг, то тяжелее идти. Дорога волнами текла навстречу, играя рябью. Но он упрямо шёл, надеясь, что человек, его зовущий, отстанет от него, поймёт, что ошибся. Какая он теперь ей пара, такой красивой, молодой…
— Яша-а! — женщина догнала и повисла на его плечах.
И он вдруг почувствовал, что нет сил сопротивляться, нет сил оттолкнуть. Опьяняющая покорность вязала по рукам и ногам.
— Ты… Ты, Яша! Наконец-то…
«Зачем? Зачем?» — вспыхивала в сознании какая-то не то трезвая, не то хмельная мысль и тонула, вязла в затуманившемся мозгу, и та же покорность заставляла повиноваться.
— Я только повидать… тебя… сынишку… Я догадывался, что он есть.
Хотел увидеть вас хотя бы издали…
— Яша! Ах, Яшенька! Чудак мой долгожданный… — Она глядела на него, плача и смеясь, целовала впалые глаза, изрытое оспой лицо, шрамы.
— Нет, нет, Аннушка! Я теперь не тот, какого ты ждала. Ни молодости нет, ни здоровья…
— Яша, Яша, что ты говоришь? Родной мой, я тебя ждала любым. Больного — вылечу, раненого — выхожу, а старость сама от нас отступит. Пойдём, пойдём домой… — И повела.
И они пошли, покачиваясь, пьяные от счастья.
На этот раз Яков Иванович сдался в плен добровольно.
***
Твист.
Тимофей Карпук вернулся в родное село. Внешне он был таким же, как и до войны: высоким, плечистым, сильным, но поседевшим и с дышащей ямой над правым глазом — пролом черепа — отчего глаз при волнении воспалялся, багровел, контрастно выделяясь на лице.
— Вот здесь, — остановилась старуха Марфа, указав палкой на едва заметный бугорок, и вздохнула.
Могучие плечи солдата поникли, и сухие желваки застыли на скулах. Соседка поднесла конец старенького платка к губам, глядя на него сочувствующе, и, пришамкивая беззубым ртом, говорила:
— Свирька Гурко пристрелил её. На сносях уж была. Шла по воду, а он с ихними ахфицерами ей навстречу. Сказал им, шо она учителка и шо мужик у ей партейный. Они ему: гут, гут. Тот, антихрист, возьми да и пульни ей прямо в живот. Ох, и мучилась… Убил бы сразу, так нет, покуражился. Павушка ему перед смертью сказала, что ты за неё отомстишь…
— Отомщу, бабушка.
— Эх-хе. Ихде ж ты ево теперь сыщешь, милок? Умёлся вместе с фрицугами. Поди, в Германии сховался.
— Такую нечисть они с собой не возьмут. В Союзе он. Мать должна знать. Или будет знать, даст ей весточку. Жива она?
— Анисья? Шо с ней станет? Ни голода, ни холода не знавала.
Над распадком стояло солнце. Поля цвели разнотравьем, среди которых чернели ещё неубранные орудия, танки. Село, некогда цветущее, утопавшее в садах, теперь было обугленное, нежилое, изрытое воронками. И как бы солнце весело не светило, оно не могло скрыть грустной картины послевоенного разорения, бедности и воронки.
— Что же не с людьми похоронили?
— Так никак нельзя было. Никого не подпускали. Да и боялись мы идтить к ней. Ночью, уж мертвую, утащили сюда, тут и прикопали.
Солдат понимающе кивал головой, не стесняясь скупых слез.
Бывший армейский разведчик, Тимофей Семенович Карпук, Герой Советского Союза, остался в родном селе на Смоленщине, возглавил колхоз и приступил к восстановлению разрушенного войной хозяйства.
* * *
Из Березовки в Сураново, что находятся в южных районах Кемеровской области, ехали на председательской одноосной бричке Мирон Прокопович Суранов и Иван Гуськов. Поскольку Мирону Прокоповичу нужно было проезжать деревню Тёплую, он и прихватил в Березовке попутчика. Иван, или по-деревенски — Гусь, был человеком разговорчивым, а поскольку ехать не ближний свет, почти восемь вёрст, то такой попутчик оказался кстати. И рассказчик он своеобразный, не болтливый, но если поднималась какая тема, то обсасывал её со всех сторон, доходил до самого донышка. Поэтому с ним в дороге не было скучно, и Мирон Прокопьевич много чего узнал из жизни соседей. И когда он спросил о Гуркове:
— Так что там со Степаном вышло?
Гусь с удивлением повернул к нему голову на длинной шее и сам спросил, как крякнул:
— А ты чо, не в курсе разе?
— Да так, в общих чертах.
Гусь достал пачку с папиросами, одну папиросу подал председателю, другую сунул себе в рот. Закурили.
— Тут, знашь, Мирон Прокопыч, в двух слова не перескажешь.
— А куда нам торопиться? Дорога дальняя, говори да говори.
— Ну, ты Гуркова знашь?
— Конечно. Не раз встречались по-соседски. Да и в районе, на районных собраниях, партийных, да и в райкоме партии на докладах. Встречались, как же. Ничего мужик, толковый.
— Толковый-то, толковый… Да бедовый, змея его уродила…
Гусь помолчал, как бы собираясь с духом, с мыслями, потом сказал:
— Ну, так слушай, да не сбивай. У меня от этого мысля становится корявой.
— Хорошо, не буду.
— Начну-ка я с самого изначала. Ты не знашь, как он у нас оказался?.. — начал свой рассказ Гусь. — Дык его это, сам Михаил Иванович наш, Вымятнин, привёз. Это когда возвращался с фронта домой. Он, вишь ли, по доброте душевной накупил три чемодана и вещмешок подарочного барахлишка и маялся с ними на станции Тайга, что у нас тут на перепутье между Москвой, Владивостоком и Томском. Война кончилась, мужик на радостях домой едет, ну и как тут родных не порадовать гостинцем. А родни у него, почитай, вся наша деревня Тёплая. Я и то ему племянником довожусь. Троюродным, все одно ж родня. А тут одних только детей, не считая своих троих, десятков …надцать наберётся. Взрослых — на пальцах не перечтёшь. Так что каждый чемодан по пуду, а то и боле будет. Солдаты, ехавшие с ним по пути домой, помогли выгрузиться из эшелона, а дальше — как знаешь. Связал себя ими, не хуже пут. Тут, говорит, надо билеты брать до разъезда Сураново, да на Томскую ветку перебираться, ан, не отойти. Одно понесёшь ты, другое кто-то, да не к твоим воротам. Хоть бы знакомых, кого встретить?..
Стоит наш Михал Иваныч на перроне привокзальном, думу думает: как бы это сноровиться, да как бы ухитриться? Тут видит, сержант сидит на скамейке, смотрит задумчиво под ноги и будто бы никуда не торопится. Так Михал Иваныч к нему и подкатывает.
— Здравия желаем!
Тот.
— Здравия желаем!
Сержант сутуловатый, на вид крепкий, говорит, мужичок, да ещё при двух медалях — бывалый вояка. Ну а нашему Михайлу Ивановичу перед ним тоже краснеть не приходится: выше него ростом, взгляд, сам знашь, всегда живой, приветливый, да и грудь в немалых наградах и на плечах офицерские звезды — лейтенант и притом старшой.
Разговор меж фронтовиками известный: откуда, где воевал и так далее. Когда же речь зашла — кто и куда направляется? — сержант посмурнел.
— Родом из Смоленщины, отвечает, да немила мне родная сторона. Родителей, жену фашисты расстреляли, и подался я, куда глаза глядят. Вот и прикатил в Сибирь. Возьмёшь с собой, так и с тобой поеду.
От такой милой навязчивости Михал Иваныча чуть слеза не прошибла. К горю-то чужому мы, теплинцы, завсегда чуткие. Порой и про свои болячки забываем. Так что Михал Иваныч был вдвойне рад: человеку пособит и тот, ненароком, ему подмогнёт.
Вечером, когда с полей возвращались колхозники домой, им повстречалась подвода, гружённая вещами, мужичок-возница нанятый на разъезде Сураново за приличный куш и два бравых воина. Михайла-то Ивановича мы сразу признали и с радостью. Другой как будто — ненашенский.
В тот же вечер у Вымятнинских ворот была настоящая ярмарка. Сбежались все: и кто хотел увидеть вернувшихся с фронта, и кто желал получить даровые подарки. В одночасье Михал Иваныч остался при пустых чемоданах и при своих интересах. Но зато гуляла Тёплая от души и всем миром.
Вот так и появился в нашей деревеньке Степан Данилович Гурков. Стал жить да поживать и в меру сил трудиться. Смекалистый, а потому пришёлся колхозу ко двору, и в тот же год был введён в правление, где занял место скромное, но уважаемое — учётчика. А поскольку был он человеком партейным, то и тут ему была оказана знатная честь — предложили в секретари парторганизации. Но Степан Данилыч оказался человеком скромным и от столь высокого поста себя отговорил; дескать, он человек тут новый и на первых порах ему не помешает и в замах походить.
Не женился он долго. Немало находилось ему невест: и вдов, и незамужних девок. Но горе, тисками сжавшее сердце солдата, никак не позволяло решиться на повторный брак. И только, когда Михал Иваныч, уже будучи в должности председателя колхоза, сам взялся за сватовство, подтаял в душе Степан Данилыча ледок. Не стал супротивиться другу. Всем колхозом срубили Гурковым дом пятистенок, помогли обзавестись домашностью, скотиной. За что Степан Данилович и его молодая жена Фая были душевно благодарны народу и исправно трудились, выплачивая колхозу ссуженную им сумму. Да и у самого Степана Данилыча, похоже, кое-какие деньжата водились. Может, что с войны подкопил? Так что, домик им не в тягость обошёлся.
Потом у них появились детки: Игнат, Анисья, Иван и Маняша. Дети, хоть и не цветы, а при достатке, да при родительском догляде растут как васильки на пшенишном поле. Посмотреть на них со стороны — одно удовольствие.
Степан Данилович редко выезжал из Тёплой. Да и куда? Были бы где родные. Правда, Фаина Михайловна как-то заикнулась, дескать, может, съездим к тебе, Стёпа, на родину? Так Степан Данилыч аж в лице сменился. Фая язычок раз и прикусила — зачем разворошила человеку рану? Прости, Стёпушка, не подумала.
Но раз в год или в два он всё же выезжал в раён, а то в область, может и ещё куда слетает, ведь дела бывают и дальше родной поскотины забрасывают, страна-то необъятная. Поотсутствует с недельку, а то и две, и домой возвертается. Подарков разных бывало понавезёт, гостинцев: радуйтесь детки, радуйся жинка. Семьянин, куда с добром. Да и умел жить, не чета нам, Мирон Прокопович.
Пожалуй, в их дворе у первых появился мотоцикл, не говоря уж про радио. Телевизор, во-о-от с такусеньким экранчиком, как зеркальце на сундучку, — тоже у них. Первое время им от ребятни отбоя не было — диковинка, кино на дому! А этот самый, который рок-н-ролл, шейк, твист мотает, магнитофон, тоже из их двора первым заголосил. Диковинные вещи чёрте знает, откуда и доставал, на что покупал. Всё через них до нас доходило, вся цибилизация. Если бы не Гурковы, так бы и была наша деревня темней сеней.
Степана Даниловича всякий встречает с почтением. Со всяким он может побеседовать, присоветовать, обнадёжить. И всё за так просто, из уважения значит. Но пьяных сильно не уважал. Ну, просто не перенашивал лютой нетерпимостью. Как завидит, что кто-то, да не дай Бог, в рабочее время, в страду в особенности, пьяный по деревне шатается — не сдобровать. Как хватит за шиворот и давай под бока ширять, у бедолаги аж пена изо рта, а то, бывает, и красная. Умело бьёт, с понятием, и молча. На себе раз прочувствовал, думал, не оклемаюсь. Паразит. И попробуй, пожалься.
Пытались было мужики его приловить, отомстить значит, да не тут-то было. Михал Иваныч его сторону принял. Пусть только, грит, с его головы хоть один волосок упадет — небо с овчинку покажется. Да и понять человека можно, всё ж таки друг, тот, кого он к нормальной жизни вернул, в горе помог, оженил, и отцом крёстным евонным деткам стал. Конечно, крещение тайком проводили — оба ж партейные. Да в деревне-то – што шило в куле. Так что — кумовья, почитай — родственники. Потому и не оставлял его без внимания. Уважал.
Да и как опять-таки не уважать? Был учётчиком, кончил сельскохозяйственный техникум, стал главным экономистом. Весь колхоз, можно сказать, на себе потянул и у председателя, конечно же, за правую руку. Так что, если Степан Данилыч когда и почешет об кого кулаки, так уж не обессудь. Не шали, брат, в будни, не буди в человеке зверя, гуляй, когда на это время дозволяет. Правильный, толковый человек был наш Данилович.
А ты знашь, хорошо у нас праздники проходят. Взять октябрьские, майские… Да и вы, я слышал, громко празднуете?.. Так и у нас.
Митинг как всегда. Оркестр наш деревенский, под гармонь и две трубы. Председатель речь толкнёт. Парторг, то есть Степан Данилович. Раньше он не был охочим до речей, до митингов. Всё в сторонке, в публике. А как стал на большую должность, то мало-помалу на людях, на публике появляться начал. Да так бывало скажет, что прежним ораторам и выступать не обязательно. Словом, что гребешком, душеньку пригладит.
Так и повелось потом, где какое торжество, там и Степан Данилович, его яркая речь. Дал же Боже человеку способности, во всём проявляются.
В 65 году, аккурат на 20-летие Победы, такое вдруг у нас стряслось, как будто от мины, только замедленного действия — отдалось аж, эвон когда. И где? — за четыре тыщи вёрст от Смоленщины…
А день-то начался как… С утра празднично одетый народ у клуба. Фронтовики к одиннадцати часам сходятся. При орденах, а кто и в военной форме. Важные, торжественные. Ждут команды. А командует у нас всем парадом опять-таки сам Михайл Иванович. Он по званию старше, капитан уже. Строит колонну не по званиям и не по росту, а по наградам, по заслуженности значит. И как всегда Степан Данилович впереди. Всем строем проходят мимо односельчан — и в клуб, на торжественный митинг. Народу набивается — шишке кедровой упасть негде.
Бывает, к такому дню приезжают люди из военкомата, из раёна. Приглашает Михал Иваныч для солидности и особенности случая. Слово им первым предоставляется, места в президиуме. Всё, честь честью. И на этот раз приглашали, да у них и без нас хлопот нонче, видно, много было — все ж таки не рядовой день, юбилейный! Ко всем не поспеть.
Но нам зато с другим гостем этот раз повезло.
Герой Советского Союза к нам на торжества припожаловал. Предсталяешь, честь какая — небывалая! Правда, призапозднился чуток, к концу собрания подъехал. Но не беда, праздник-то только начался.
Заходить в клуб уж не стал, чтоб не ломать репиртруар праздника, видно. Курил и под окном клуба стоял, слушал ораторов наших, доморощенных. А произносил речь аккурат Степан Данилович. О войне, о боях и сражениях, о гибели миллионов ни в чём не повинных людей, о жестокости фашистских гадов и об их прихвостнях, предателях, сказывает наш вития. Складно так, речисто, как вода по голышкам катится. Тут и камень подточит. И гостя нашего проняло. Курит часто, подкашливает.
После митинга: художественная самодеятельность, танцы, гулянья как полагается. Словом, репиртруар на весь день.
— Репертуар, — поправил Мирон Прокопович.
— Вот-вот, э-э… повестка дня. Народ из клуба стал выходить. Ребятня забегала…
За селянами фронтовики выходят, взволнованные, угощают друг дружку куревом.
Зашумел, ожил зеленеющий сквер под ветерком да под солнышком ясненьким. День выдался в том разе, как по заказу.
Тут и товарищ Герой к крылечку подался. Росту он большого с нашими мужиками, однако, ни с кем не сравнить, и в плечах косая сажень. Глаза у него только пошто-то разные, белый и красный. И волосы не ём белые, седые.
Стоит, весь белый да ещё побледнел с чегой-то. Хотя понять можно, волнение от всеобщего внимания.
Из клуба кто не выходит, с любопытством посматривают на гостя, дивятся: в наших-то краях да живой Герой — невидаль! Старички да старушки кланяются, и он к ним с почтением.
А когда Степан Данилыч на крылечко выступил, так он сам к нему подался, — к корешку, видать, долгожданному. Мы даж порадовались, ну и Степан Данилыч, смотри-ка, каких друзей имеет! Поди, товарищ фронтовой, однополчанин дорогой, и помалкивал. Знатьё, так мы б пораньше его из клуба к нему выманили.
А товарищ Герой дружка дорогого за костюмчик этак вот берёт и к себе притягивает. На ушко чего-то шепчет, приветствует, надо полагать. Только от его «здрасте» Степан Данилыч поштой-то с лица сменился, головой закрутил, словно в петлю попал.
При клубе тумба стояла, видел, поди, пустая уж сколькой год. Статуйка на ней когда-то была, товарища Сталина. Так сбросили. Осиротилась.
Так вот, товарищ Герой за поясной ремешок да за грудочки берёт Степан Данилыча да подтаскивает его к тумбе. Видать, дружка приладить к ней задумал. А пошто бы и нет? Пущай ради такого дня на ней статуем покрасуется. Есть за что, сами знаем-уважаем. Такому человеку в живье памятники ставить надо.
А товарищ Герой вдруг кверху Степан Даниловича подкидывает, и на тумбу — хоп! Да, видать, маху дал, зацепил лишь об неё евонным задом. Со второй попытки опять — хоп! И опять смазал! Да пошто так-то? — очумели мы. Совсем Герой прицельность потерял! Што не попытка, то мимо. Не то решил дух из Степан Данилыча вышибить?!. А с третей попытки у Степан Даниловича совсем голова на бок и руки врозь, плетьми повисли…
Люд стоит, зрит, как наш Степан Данилыч от тумбы кирпичики откалывает и ни с места. Онемел будто.
Гостенёк тем временем управился. Сбросил товарища Гуркова в палисадник, как куклу, и опять отошёл к клубу. Отпыхивается. Глядит на нас разноцветными глазищами, белым да красным и сам белый — ну сущий лешак!
Тут ещё Витька-кинщик — дернула нелёгкая! Он-то не видел, что во дворе клуба деется, репродуктор включил да на всю-то мощюшку: треск, вой стоит, как гром по ясному небушку, да ещё с музыкой. Настоящее светопреставление!
Тут Михал Иваныч из клуба выбежал и к незнакомцу, тоже было к нему за грудки потянулся: мол, это что за такое?!. Это как прикажете понимать?.. И, наверно, подкрасил бы гостю и другой глаз. Так тот ему что-то ответил — да из-за шума на дворе разве разберёшь? — с председателем дурно сделалось. За сердце схватился. Валентина Сергеевна, наша фельшалица, его вместе со Степан Данилычем в больничку к себе свезла. А оттуда в раён.
Тут и вовсе нам стало не по себе. Что за катастрофа? Что за представление? Пока народ очухался, пришёл в себя, гостя в амбар свели — участковый не растерялся.
Вот и пойми, что к чему?..
Но худая весть по ветру катится, ни за что не цепляется, и до нас вскорости докатилась. Внесла, значит, ясность, то есть — навела тень на плетень, будь она неладна. А что оказалось?.. А то, что в нашей Тёплой, веришь — нет, предатель, и притом — каратель! — пригрелся! И вовсе он не Степан Данилович, а Свирька Гурко. А тот, кто его к тумбе прилаживал, был из тех мест, землячок его. Тимофеем прозывают, Карпуком. Евонную жинку эта сволота убил и натворил ещё немало бед. Об этом, обо всём нам доложил Михал Иванович, когда съездил на суд.
Только не осудили предателя — не подошёл он под него по состоянию здоровья. А Карпук ничё, подошёл — дали три года за самосуд. Тоже председателем колхоза там-ка, на Смоленщине работал, — Михал Иваныч сказывал.
На этом и закончилась бы вся эта история. Поохали, поахали, да над Михал Иванычем поязвили бы: пригрел, мол, оборотня! Хотя, если рассудить, он-то тут причём? Мы ведь тоже не разглядели, вовнутрь не заглянешь, а на лбу не написано. Стало быть — все олухи, и одного и того же царя.
Да вот же ж, посмотри, какая живучая бестия этот Свиридка Гурко оказалась. Через год-полтора опять объявился в Тёплой. Как блоха припрыгал. И кто его звал?..
Фаина Михайловна к тому времени уж вместе с детьми от стыда и позора уехали, и предатель обосновался в заброшенной баньке на краю деревни. Деревня-то потихоньку разоряется, разъезжается люд. Так вот в старой баньке и приглядел он себе квартирку. Банька была во мху, старая, перекошенная, ну ни дать ни взять — своему квартиросъемщику подстать. Свиридка высох, головка трясётся, того гляди, сломится с тоненького комелёчка; нижняя челюсть отвисла и слюнявый язык лежит в ней, как вареник. Ходит бочком, и ступает, будто бревно перешагивает. Страхолюдина. И волосищами оброс, ну сущий упырь.
Жил предатель одинёшенько, тихохонько. Это уж позже вкруг него стали сбираться бабки богомолки-баптистки, к тому времени набожным чёрт стал, молитвенники почитывал… Приспособился делать забавные игрушки из сучков и корешков и менял их на хлеб, на яйца, когда фартило — на деньги.
Любопытные пацаны подглядывали за ним. Сказывали, что перед тем, как справить нужду, он будто бы целый танцевальный ритуал исполнял, невообразимо выгибаясь и раскорячиваясь. Кипятит в ржавых банках травку, коренья.
Когда он появлялся в деревне, детвора провожала его веселым улюлюканьем. Кричат бывало:
— Твист, Твист идёт!..
В него кидали зимой снежками, летом гнилыми помидорами, тухлыми яйцами.
Озорство детей пресекалось, конешно: кто бы он не был, какой скотиной, а самим-то к чему звереть?
Так предатель и жил, себе в наказание и нам в тягость.
Среди молодёжи в то время танцы появились диковинные: рок-н-ролл, шейк, твист. На танцплощадке, чего только не насмотришься: кривляются, дергаются друг перед другом, как припадочные. Может танцы эти сами-то по себе и неплохие, так кто ж им обучит? Твист разве? Кличку, слышь, такую Свирьке прилепили — без музыки подобные кренделя выписывает, паразит. Смеялись люди над танцорами: мол, предатель трясётся — жизнь заставляет, а вас-то что? Мода, говорят.
Твист прожил у нас без малого пять лет. Может быть, Господь его ещё бы потерпел, да бык помог. Поддел Твиста на рога — и дух из него вон. Люди меж собой поговаривали: мол, не снёс бычок столь долгого существования предателя, исполнил затянувшийся приговор…
***
— Вот такой, значит, у нас товарищ Гурков проживал, — закончил свой рассказ Гусь.
— Чёрт он, а не товарищ, — выругался Мирон Прокопович. И спросил: — И где он раньше был?
— Кто?
— Да бык ваш. Давно пора было укатать Твиста этого. На земле чище стало бы и на душе светлее…
— Да и мы об том же, Мирон Прокопыч.
— Н-но! Соколёнок, не спи! Поторапливайся… — Суранов хлопнул меринка вожжой.