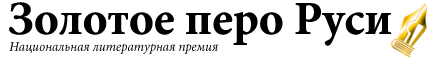1.
Нет никакой беды в том, что из-за срока давности и, как говорится, возникших новых обстоятельств, мой рассказ о некоей русской иммигрантке будет по ходу дела упрямо ассоциироваться с широко известным кое-кому произведением Антона Павловича Чехова. В старые мехи – да новое б вино! По мне: в тысячу раз почетнее рабски путаться в мыслях и образах великих предшественников, чем, самодовольно оригинальничая, пародировать открытие Америки.
Итак, эта женщина впервые объявилась в Монреале лет десять тому назад вместе с большой отбойной волной. Однажды летом, подрагивая мягким налитым задом, летящей походкой бывалой балерины в легком и, как здесь принято, смело открытом, голубом сарафанчике, со здоровым тургером и аккуратной малахитового цвета котомочкой-рюкзаком за плечами, прошлась она по наклонным улицам нашего своеобразного, североамериканского Парижа и… сразила.
При виде импозантной дамы разномастные детишки на иссиня-асфальтовых тротуарах и в зеленых сквериках обмирали на месте и восторженно верещали, взмахивая ручоночками:
— Мама, мама, смотри!
— Ой, да что такое?! Что ты кричишь?! Что там такое?
Нельзя кричать на улице!
устрашающе шипели мамашки. – Шшшш!
— Смотри, смотри, мама! Какие у тети глаза голубые-преголубые!
И вправду сказать, необыкновенной голубизны глаза были главной отличительной особенностью нашей иммигрантской дамы. Среди абрикосовых, черносливовых, персиковых и даже хризантемовых в большинстве своем монреалок наша дама вообще выгодно отличалась не только молочной белизной кожи, легкой кудрявостью и крепкой русовитой косой. Ко всему этому шумный родниковый свет ее широко распахнутых бирюзовых очей, словно прожекторами, бесконтрольно лупил во всех встречных-поперечных своей животворящей голубизной широких российских небес и взволнованным сиянием необъятных льняных полей. В зависимости от освещения. А полный джентльменский набор колдовской «зарубежной» косметики, удваивал и утраивал этот сногсшибательный эффект.
Но повторяю: эта женщина, о которой речь, не была стройной, а была, что называется, пухленькой, и лишь казалась таковой. Прибытие ее в Монреаль вызвало особый интерес во всем мужском подразделении русскоглаголющего, громкоговорящего и интеллигентно-блеющего коммьюнити тогдашнего микрорайона, язвительно прозываемого «Буретия». Как в женатой, так и в холостующей его части.
Можете себе представить, если вы мужчина и вы сексуально озабочены… Почти воздушно, быстро-быстро перебирая сильными ножечками, перед вами как бы неким видением проплывет пухленькая, молочно-белая, соблазнительная, безотносительно к ее выразительным глазам, молодая женщина в коротком и, подчеркиваю, открытом аквамариновом платье. Скромный, но свежий, только что приобретенный в «шопе» (извините за выражение) дерматиновый малахит-рюкзачок за плечами плотно при этом охватывает ее спереди своими ляжками… нет, лямками, нежно и сильно приминая высокую, полную, козью грудь Афродиты. Ах, да причем здесь одежда?! Главное, понимаете: женщина всем своим видом дает вам понять, что не прочь… поиметь знакомство.
Нет никакой беды в том, что из-за срока давности и, как говорится, возникших новых обстоятельств, мой рассказ о некоей русской иммигрантке будет по ходу дела упрямо ассоциироваться с широко известным кое-кому произведением Антона Павловича Чехова. В старые мехи – да новое б вино! По мне: в тысячу раз почетнее рабски путаться в мыслях и образах великих предшественников, чем, самодовольно оригинальничая, пародировать открытие Америки.
Итак, эта женщина впервые объявилась в Монреале лет десять тому назад вместе с большой отбойной волной. Однажды летом, подрагивая мягким налитым задом, летящей походкой бывалой балерины в легком и, как здесь принято, смело открытом, голубом сарафанчике, со здоровым тургером и аккуратной малахитового цвета котомочкой-рюкзаком за плечами, прошлась она по наклонным улицам нашего своеобразного, североамериканского Парижа и… сразила.
При виде импозантной дамы разномастные детишки на иссиня-асфальтовых тротуарах и в зеленых сквериках обмирали на месте и восторженно верещали, взмахивая ручоночками:
— Мама, мама, смотри!
— Ой, да что такое?! Что ты кричишь?! Что там такое?
Нельзя кричать на улице!
устрашающе шипели мамашки. – Шшшш!
— Смотри, смотри, мама! Какие у тети глаза голубые-преголубые!
И вправду сказать, необыкновенной голубизны глаза были главной отличительной особенностью нашей иммигрантской дамы. Среди абрикосовых, черносливовых, персиковых и даже хризантемовых в большинстве своем монреалок наша дама вообще выгодно отличалась не только молочной белизной кожи, легкой кудрявостью и крепкой русовитой косой. Ко всему этому шумный родниковый свет ее широко распахнутых бирюзовых очей, словно прожекторами, бесконтрольно лупил во всех встречных-поперечных своей животворящей голубизной широких российских небес и взволнованным сиянием необъятных льняных полей. В зависимости от освещения. А полный джентльменский набор колдовской «зарубежной» косметики, удваивал и утраивал этот сногсшибательный эффект.
Но повторяю: эта женщина, о которой речь, не была стройной, а была, что называется, пухленькой, и лишь казалась таковой. Прибытие ее в Монреаль вызвало особый интерес во всем мужском подразделении русскоглаголющего, громкоговорящего и интеллигентно-блеющего коммьюнити тогдашнего микрорайона, язвительно прозываемого «Буретия». Как в женатой, так и в холостующей его части.
Можете себе представить, если вы мужчина и вы сексуально озабочены… Почти воздушно, быстро-быстро перебирая сильными ножечками, перед вами как бы неким видением проплывет пухленькая, молочно-белая, соблазнительная, безотносительно к ее выразительным глазам, молодая женщина в коротком и, подчеркиваю, открытом аквамариновом платье. Скромный, но свежий, только что приобретенный в «шопе» (извините за выражение) дерматиновый малахит-рюкзачок за плечами плотно при этом охватывает ее спереди своими ляжками… нет, лямками, нежно и сильно приминая высокую, полную, козью грудь Афродиты. Ах, да причем здесь одежда?! Главное, понимаете: женщина всем своим видом дает вам понять, что не прочь… поиметь знакомство.
2.
Причин для сексуальной озабоченности мужчин в Монреале выявилось немало. Прежде всего, оттого, что по женскому делу настоящим мужчинам здесь делать почти нечего. Процветают тут лесбиянки, сожительство с кобелями и другими животными, массовая мастурбация: от руки — в ванне, с патентованным «инструментом» — под душем, с бананом или морковкой – у телевизора и с зубной щеткой — перед зеркалом. Не секрет, многие востроглазые монреалки традиционно рассматривают свои маленькие штучки не как известный всем детородный орган и предмет любовных утех, а как надежное капиталовложение во всякого рода бизнесы в добыче хлеба насущного. «Даунтаун-бизнес», как здесь говорят.
В жутковатую сексуальную засаду попали на Западе мужики былой славянской закваски, оказавшиеся здесь без языка и без работы, а, значит, без денег, но каждый со своей «березкой», белой и прямоствольной. Признаться, кое-кто из моих знакомых тут же заголубел от недостатка нормальной половой жизни. Но и то сказать! Сколько моя милая Россия ни омолаживается и никак не омолодится, столько чуждый нам Запад загнивает и так и не отгниет… Словом, каждый загнивает по-своему. И никому из женщин не скажешь, как бывало в песне, «пойдем, любимая моя, березкой полюбуемся». Язык не поворачивается. Знаем мы ваши «березки»! Прошла мода на халяву. И во всех частях света одновременно!
Если излагать суть дела экономически и более откровеннее, чем я до сих пор излагал, то выходит, что мужчина в Канаде стоит всего лишь около ста долларов в месяц. То есть, приблизительно такая сумма выпадает в осадок после вычитания вэлфера «на одиночку» из «семейного» велфера. Вот уж действительно, грош ему цена!
Особое внимание представителей сильного пола ко вновь прибывшей объяснялось еще и тем, что для иммигрантского захолустья, каким являлось в то время местечко Буретия, эта женщина была то, что обозначается словом «свеженькая». Не новенькая или молодая, а вот именно свеженькая, в смысле «дурашка». И подлинно, несмотря на горькую тяжесть нескольких вынужденных миграций по бывшей «одной шестой земного шара», опасливую репатриацию, беженскую иммиграцию, наша дама оставалась доброй, веселой, смешливой и, по сути своей, кокетливой женщиной. Словом, кто каким родился — тот таким и умрет. Главное, голубое полыхание ее глаз было нестерпимым. Как живое олицетворение нашей милой утраченной родины, сказал бы я. А, тем не менее, скрытно и живо текла и бушевала в пульсирующих жилах русской иммигрантки, помимо всего, горячая кровь Италии. Или Испании. Или Греции. Или…
Один грубый мужик, корчащий из себя писателя, не зная, как приступиться соблазнительной женщине в одном вдруг ей выдал:
— А Вы-то что здесь делаете? Вы совсем не похожи на «наших»…
И наша дама живенько так припечатала оппонента:
— Это у вас фамилия Козлов. А я – Ларина!
Для тех, кто не знаком, поясняю: коренное русское слово «ларь» и латинское «лары» не одно и тоже. Это два одинаково слова-омонима. Александр Сергеевич Пушкин, наш общий национальный гений, был неуловим, давая отцу главной героини своего романа «Евгений Онегин» Татьяне фамилию Ларин. «Ларь» – это всего-навсего большой деревянный ящик для хранения сыпучих грузов или торговая палатка, или открытый прилавок. Скажем, ларек. То есть, по-французски, киоск. А вот, «лары», по верованиям древнеязыческих римлян, живших в месте, ныне называемом Италией, — это духи, покровители семьи и домашнего очага. Маски и статуи ларов изображались двуликими. Сторона, обращенная к гостям, к приходящим, представлялась ужасающей; зато покровительственные улыбки ларов приветствовали хозяев дома. Таким образом, фамилия отца Татьяны, доброго русского помещика, с «ин» в суффиксе не коренная, а вновь образована лет 400 тому назад. Как и фамилия «Пушкин», возникшая во времена появления пушек на Руси. Это неважно, что впоследствии один большой и прогрессивный критик назвал Татьяну деревенской дурочкой. Хорошо известно зато, что когда однажды кто-то бесцеремонно спросил Пушкина:
-Татьяна Ларина, это у вас кто в романе?
— Пушкин весело и ошеломляюще заметил по поводу своего
любимого женского образа:
— Татьяна Ларина? Это я!
Пушкин, как мы теперь знаем, несмотря на то, что был волокита и дуэлянт, оказался большим и примерным семьянином! Кстати, задумывались ли вы над очаровательной загадочностью кажущейся простой пушкинской фразы «Татьяна, русская душою, сама не зная почему, любила русскую зиму»? Близок к нему по мысли и по чувству Н.А.Некрасов. Не «русские женщины тата и тата…», — он писал, а: «Есть женщины в русских селеньях…».
У всех у нас, бывших россиян, и у потомков россиян в том числе, благодаря тысячелетним генезисам, золототканые души наши навсегда оторочены пушистым серебром российских морозов.
3.
Так вот, наша дама, о которой мы как раз сейчас и говорим, по странному совпадению с Пушкиным, носила фамилию Ларина и первоначально звалась… Тойба — на идиш и Това — на иврите, то есть «хорошая» или «хорошенькая». Что на всех других языках мира означает одно и тоже, кроме русского.
А краткая семейная история крещения девочки сибирскими снегами и трансформации ее женского имени Тойба в Татьяну такая.
На седьмой день по рождению, как и положено по христианско-иудейской традиции, в своем долгожданном январе, папа девочки Моисей Соломонович Ларин, черноглазый, пожилой уже, но задорный мужичина уговорил знакомого конюха-возчика хлеба и других выпечных изделий, и запрягли они в разукрашенные сани-розвальни резвую тройку застоявшихся кобылок, хорошо выпили вдвоем «на радостях» и стремглав помчались по городишку в родильный дом забирать домой кареглазую жену дядюшки Моисея роженицу Хиночку и новорожденную.
На обратном пути из роддома мужики снова приятно выпили. А то, как же без этого? Где на празднике наша не пропадала?! Яркое солнце, ядреный морозец, снежные вихри, меховые полости, вьющиеся ленты, перезвон бубенцов под нарядными дугами!.. Вдруг сани-розвальни раскатились на вираже, и со всего маху спеленатого ребенка выбросило в сугроб. Младенец терпеливо помалкивал, полеживая в снегу, очарованно смаргивая белесыми ресничками на синеву впервые представившегося ему глубокого неба. Колючие снежинки неспешно таяли на личике девочки, зарождались в детских глазках сказочные голубые льдинки, а Моисей Соломонович в это время тяжело колотил, дубасил и волтузил друга-возчика почем попало, а тот и не сопротивлялся, вину чувствуя.
При официальной регистрации в Загсе добрые малограмотные женщины дали Тойбе полное «славянское», по их мнению, имя Табьяна, переписанное в Татьяну по достижению совершеннолетия. А что? Создавалась единая советская нация, подобная канадской и такие же милые чиновницы, уже в другом месте бывшего Союза обозвали в детстве моего бывшего армейского друга Славу не Вячеславом, а Славянином!
С того-то дня выросла голубоглазая Тойба, дочка Моисея Соломоновича, как натура тонко чувствующая, своенравная и непредсказуемая в общественном поведении. Женщина эта уже и во взрослом состоянии, имея троих сыновей-бугаев, бегала босиком по «системе буддийского опрощения» и по траве в сквериках, и по тротуарам сигала, и морковку-каррот (нетертую) демонстративно и соблазнительно грызла прямо на глазах у растерянных монреальских мужчин.
Но Пушкин Пушкиным, а к Татьяне в Буретии привязалась другая, чеховская ассоциация. Ни с того, казалось бы, ни с сего стали женщину называть между собой «Дамой с рюкзачком». По контрастности, видимо, и от чеховского очарования «Дамы с собачкой», что, прежде всего, указывало на интеллигентность тогдашних обитателей этого микрорайона. Во-вторых, легкая шутка заключалась в том, что настоящие дамы рюкзаков-то не носят. Как советские люди за хлебом на такси не ездили. Но именно в те пока, еще постижимые разумом, времена была Тойба-Таня настоящей дамой, и за плечами ее не поноска-рюкзак бугрился, а инженерный институт и профессорско-педагогическая деятельность
— Если я в техникуме восемнадцать лет без перерыва преподавала, разве это не идиотством теперь выглядит, когда ни пенсии, ни уважения?! – безответно вопрошала она теперь к окружающим умникам.
А в-третьих, сам рюкзак этот замечательный, «городской» модели! Казалось, что Татьяна слилась, неразрывно срослась с ним на всю оставшуюся жизнь, как «народ и партия», как мультипликационная мутантка-черепашка-ниньзя со своим панцирем!
В общем, понравилось ей в Канаде рюкзак носить. Все здесь рюкзаки носят, и порой кажется, что страна собралась в некий дальний-дальний поход-переход. А с другой стороны, рюкзак носить — это как бы одеваться-наряжаться в него. После всех ридикюлей, сеток, сумок, авосек, пакетов, кейсов, «дипломатов» прикипела и к Татьяне современная рюкзокотомка, способствуя хорошей осанке и защищая ее хронический радикулит от сквозняков. Члены Татьяниной семьи пытались было называть заплечный мешок по-собачьи – «Тобик», но имя к норовистому рюкзаку не прикипало. Зато держался он на Тане всегда молодцом и сползал с нее только на отдых. Как бородатый Карла с украденной из-под венца пушкинской Людмилы. Ничуть не горбил, набитый то провизией, то персональным снаряжением для сауны и для бассейна, то газетой «Голос общины» для доставки в разнородные русскоговорящие народные массы, то «Монреаль- Торонто», то «The Yongе Street Review» из самогоТоронто, a потом и всеми вместе как членами одной журналистской ассоциации. Хлопотливо свисая со спины на ее округлый задик, она, Ее Величество Городская Заплечная Сумка-Рюкзак, старательно подчеркивала все гибкости и замечательные выпуклости зрелого женского тела.
4.
О несказанной доброте и неадекватности поведения Дамы с рюкзачком бешено циркулировали по Буретии веселые слухи. Рассказывали, например, что всякий раз, направляясь с авеню Бурет за покупками в супермаркет Ай-Джи-Эй маршрутом по горбатой Виктории до оживленной авеню Ван Хорн к станции метро Плямондон, эта полноватая женщина не раз наклонялась, коллекционируя пластиковые бутылки и жестянки из-под кока-колы да пива. Она их сдавала в супермаркете, а вырученные таким образом центов двадцать-тридцать с милой улыбкой отдавала плямондонскому негру, молодому притворяшке и вымогателю, нисколько не замечая ни его отменно сохранившейся физической силы, ни его откровенной наглости.
Рассудительный средний сын Татьяны, ставший впоследствии домовладельцем, как-то посоветовал ей по телефону:
— Мама, не старайся ты здесь искать людей, похожих на себя.
По добросовестности…
А Татьяна, смеясь, возразила ему самодельным афоризмом:
— Да-да, я добрая, а ты еще глупее меня! Говорят, ты какому-то
негру даже десять долларов дал?
— Но это ведь был другой негр! – возразил в ответ средняшка.
Старший сын Татьяны стал ученым; младший был так и сяк и вырос до знаменитого, а значит, до богатого, хоккеиста.
5.
Так вот, наконец, и о семье Табьяны. Буквально через каких-то года два по прибытии в Монреаль и после двадцати лет зарегулированной семейной жизни Дама с рюкзачком развелась со своим законным супругом-инженером.
Можно много и долго рассуждать о причинах, приведших к семейному разрыву. Они становятся достаточно понятны, только если перефразировать Льва Толстого и запомнить: все семьи несчастливы по-своему, а единство иммигрантской — вообще держится на волоске. Иммигранты из России — особые люди. Опьянение кажущейся свободой, желание коренных перемен и личного успеха разводят членов их семей далеко друг от друга.
В первые три-четыре года жизни за рубежом русские женщины преуспевают значительнее мужчин. Потому что от природы языкастее, оттого и чужую речь имитируют способнее. И штучка у них есть маленькая, работающая без устали. Спрос на них высок. Они спариваются с кем попало, лишь бы достичь стабильности в социальном положении. А потом, после определенных сроков, свобода русским иммигранткам приедается. Как и всё другое относительное: долгожданное теряет свою ценность, а благоприобретенное опостылевает. Короче, женщины возвращаются к мужчинам своего народа. С инстинктивной благородной миссией помощи отстающим. Но только не в прежнюю упряжь. Стыдно и скучно. Потому-то в нашей иммиграции все перепаривались. А как же, бля? Свобода, бля, свобода! Как в анекдоте на местные, квебекуанские темы:
— Папа, шо це таке на стенке висит?
— Та сабля!
— Шо, бля?
— Спи, бля!
Так из обычной войны двух армий зарождается народная война. Женщины устают удовлетворять прихоти пришельцев-победителей, оккупантов-захватчиков.
— Ну, и долго вы будете терпеть это безобразие?- запрашивают они «ванек» сильного пола своего народа. Тут–то вся катавасия и начинается. Ночные налеты, поджоги, бомбометания….
Даме с рюкзачком свобода опостылела с самого начала. От одного мужика дурно пахнет, другой просто воняет, третий – жмот, четвертый потеет ладонями, пятый – халявщик, каких свет не видел, у шестого — врожденная импотенция, седьмой — домашний тиран и так далее, и так далее. Один представляется как Франсуа и оказывается Саидом или саддиком, другой корчит из себя полноценного англичанина, а на самом деле – свой земляк-таджик… Недолго покружила наша дама по микрорайону и городу, пока не поняла, что в нашем социально-иммигрантском слое, куда нас вставили, миллионеров нет. Как не бывает гения в коммунальной квартире. Вскоре круг общения Татьяны сам собой непроизвольно ограничился общением с двумя-тремя такими же дерзкими не по возрасту, одинокими подружками.
Как-то раз, когда совсем было отчаялась в обретении более или менее постоянного бойфренда, она возвращалась одна к себе домой с возвышенного Кот-де-Нежа в низинную Буретию. Смеркалось, летели в лицо паутинный мягко-снежный тополиный пух и резкие запахи царящей здесь индийско-китайской кухни. Какая-то сумеречная толпушка колготилась тут в темных кустах по пути, у подъезда одного из общественно-ритуальных сооружений. Слышалась музыка — не то тамбурины, не то там-тамы. Толпушка самозабвенно плясала во славу чего-то недоступного человеческому разуму. Их мольба или молитва заключалась в неистовом кружении. И, словно подхваченная ветром и отчаянием, Табьяна встряла в это людское скопище сначала с краю, где ее тотчас закружило и завертело в безудержном вихре, увлекая все дальше и дальше в людской водоворот, да так, что только малахитовый панцирь ее рюкзачка время от времени, как поплавок, выныривая над головами танцующих, указывал на присутствие хозяйки.
Вдруг в один из наиболее страстных моментов танца плотный круг безотчетно смеющихся и топающих ногами людей как бы отшатнулся от середины, и перед зеваками, перед участниками всеобщего пляса предстала красивая, уже немолодая синеглазая наша Тойба, с исступленно воздетыми к небу руками, неистово извивающаяся всем телом.
— Дай, Господи! Дай, Господи! Дай, Господи! — в невыразимом отчаянии исступленно молила женщина… И упала она на асфальт посреди испуганно замершего людского круга, и свалилась она ничком, словно придавленная рюкзаком и непереносимой тяжестью общения со Всемогущим.
6.
Приблизительно в то же самое время, по весне, на другом конце Монреаля, в просторном молитвенном доме похожем на финскую кирху, среди мерцающих березок и мохнатых малахитовых елей уже немолодой, но еще крепкий, только слегка осунувшийся, дерганный бородатый мужчина перепирался с другим, у кого лицо было по-советски тщательно скобленым:
-Не могли бы вы подыскать мне женщину среди ваших прихожанок? Мы бы с ней начали строить новую жизнь в старом, закоренелом, в устоявшемся и окончательно победившем капиталистическом обществе…
— Да ты-то, Николай, сколько раз женат был?
— Три раза.
— Не многовато ли будет, как по-твоему?
— Да ведь я так устроен! – объяснялся Николай.
Прядь длинных, поседевших уже его волос при этом путалась с бородой, придавая ему сходство с попом из-под какого-нибудь родного захолустного Подмосковья.
— Другие мужики с женщинами просто живут, не женятся. Поживут
сколько-то там и разбегаются. А я – однолюб! Сугубо семейный
человек. Я по пять, а то и по десять лет с одной и той же
женщиной мучился. Только потом мы расставались. Но я не монах. Я совсем без женщины долго не могу.
— А где твоя последняя семья осталась?
— Там я ее оставил. Я свой долг выполнил: привез их и оставил.
Там. Дети были взрослые. И не мои.
— А свои дети у тебя есть?
— Есть, конечно. Три сына. Но я никогда не скрывался от
алиментов. Дети меня любят… А что, у нас здесь советский
отдел кадров?
После этих его слов собеседник Николая более внимательно
взглянул на бородатого прихожанина-погодка и
категорически заявил:
— Нет, Николай, нет для тебя подходящей женщины в Монреале. –
И припугнул на всякий случай. — А «отдел кадров», он – везде. И
на небе будут вопросы задавать…
На следующем молитвенном собрании, когда паства – каждый в отдельности и все вместе – громогласно возносит благодарение Б-гу, Николай, до этого всегда молчавший, не выдержал и взревел на всю округу своим отчетливым голосом:
— Господи, отец наш и старший брат, Иисусе Христе, спасибо, что ввел, провел и благополучно вывел! Славлю имя твое, Господи и в этой благословенной стране об одном только молю – о женщине. Сказано же, Господи, проси ради Христа – и получишь! Меня, Господи, не интересует ни благосостояние ее, ни внешняя сторона, была бы только она добрым человеком, верной подругой и обладала бы даром милосердия и всепрощения. Аминь, Господи!
Механизм Божьего заказа сработал на следующий день. Позвонил приятель из нижнего города:
— Слы-ы-ышали, да-а-а, как же-е-е! Все в городе услышали твои,
так сказать, сокровенные молитвы. А вот, кстати, мой приятель
Женя знает одну незамужнюю женщину, он с ней на
одних французских курсах учится. Не-ет, она много старше
Евгеши, и он с нею не водится. Может, попробуешь? Я сейчас
его телефон тебе дам. Да, дам-таки…
Встреча произошла на бульваре Дикарей (извините, Дикари — с ударением на последнем слоге) в одном из первых тогда русскоязычных, теперь не существующих ресторанов под названием «Утопия». За свое сводничество меркантильный Евгеша выставил Николаю условие оплатить столик и, кроме Татьяны, пригласил на халяву и своего «золотого» друга.
— А что, Вы в русском ресторане черного хлеба не водите? –
сразу прицепился к официантке Николай. – И, выдержав
паузу, отвалил комплимент Татьяне:
— У вас очень красивые, чувственные губы
— А глаза?! – задохнулась от негодования Татьяна. — Вам не
нравятся мои глаза? Вы не видите, какие у меня глаза?!
— Что ж глаза? – одурело переспросил Николай. – Главное, чтоб
человек был хороший!
7.
После вечернего ресторана, оставив там друзей-сводников и усаживая Татьяну в свою пиццерную машинюшку-развозку, Николай сказал со свойственной ему категоричностью, но не без обиняков:
— В дальнейших наших отношениях есть три пути, три варианта.
Первый: едем ко мне, у меня есть вино, попьем чаю, заодно
и поговорим. Второй вариант: едем к Вам, попьем чаю,
поговорим. Третий путь — тупиковый: едем к Вам, я Вас
высаживаю, мы прощаемся, и всё тут…
— Если Вы не возражаете, меня устраивает первый путь, —
потупившись, ответствовала Татьяна.
Николай от рождения был узкогруд и узкоплеч. С первой их ночи его крайне поразила и умилила способность такой крупной женщины, как Татьяна, умещаться на отдыхе в выемке его предплечья. Никто из прежних женщин Николая не сподобился до такого. А Татьяна, в свою очередь, тоже удивлялась себе, этой неожиданно открытой особенности и самим таким желанием ютиться в мужской подмышке. Она, кроме того, имела удивительную способность мгновенно проснуться, перемолвиться словом с тяжело думающим о чем-то мужем, подать ему воды и вновь безмятежно забыться успокоительным сном.
Они с тех пор так вместе и живут в Монреале. В любви и согласии.
Несмотря на тяжесть минувших бегов, Татьяна смогла вывезти из бывшего Союза школьный томик стихотворений Пушкина, и за это Николай по совокупности присвоил ей домашнее звание «Самой Интеллигентной Женщины Всея Западной и Восточной Сибири, а также Солнечного Узбекистана». Она его кликала на французский манер «Николя». И делилась с подружками:
— Я довольна. А что было бы, если б не каверзы, парадоксы и
завороты истории? Жили бы порознь, он бы ходил своим
путем, я бы — своим. Зато теперь мы никуда не ходим.
Лет так десять спустя после знакомства этой пары пришел конец и прозвищу Табьяны «Дама с рюкзачком», и самому Татьяниному рюкзачку. Случилось, что однажды, прямо среди бела дня, проржавленную до мохнатости «Тойоту» супругов обокрали. В нем не было ни радио, ни магнитофона. Зато воры осчастливились обнаруженным в багажнике потертым и сморщенным от ветхости дерматиновым рюкзачком малахитовой масти. Известно ведь, воры не любят уходить без добычи… А Татьяна не решилась заводить иного дружка-напарника по скудости средств.
Вскоре сошел на нет, истончился первый иммигрантский слой русскоязычных в Монреале; вместе с ним и с исчезновением знаменитого рюкзачка забылось приставшее на десятилетие к Табьяне исковерканное в прозвище название чеховского рассказа «Дама с собачкой».
…И в заключение – для особой осененности — кусочек из настоящего Чехова:
«Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой. «Если она здесь без мужа и без знакомых, — соображал Гуров, — то было бы не лишнее познакомиться с ней».
…Потом у себя в номере он думал о ней (Анне Сергеевне – В.М.), о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой (Смольненской, по-видимому — В.М.), училась все равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, — должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые серые глаза. «Что-то в ней есть жалкое все-таки», — подумал он и стал засыпать».
Ах, что я скажу сейчас? Во всех нас, живущих, особенно в иммигрантах, есть нечто страждущее… * * *
© Copyright: Володя Морган Золотое Перо Руси, 2006
Свидетельство о публикации №2603310019
Свидетельство о публикации №2603310019
http://www.proza.ru/2006/03/31-19