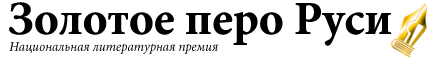ПОСЛЕДНИЙ СТАРЕЦ
Или Хроники Железного века…
…И добавил Господь наш: «Сие сказал я вам, что небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. Истину сказал вам непреложную», — и окончил Господь наш беседу ко мне, недостойному.
Видение Григория, ученика св. Василия Нового.
Часть первая.Поле чести . Глава первая.Проклятые окопы .
Командир 145-ого пехотного полка Лионской бригады не поверил своим глазам. На позиции пожаловал собственной персоной дивизионный генерал Шарль Огюсте, что уже являлось дурным предзнаменованием. Он собирается отдавать самоубийственный приказ о взятии предместья Сент Антуан, неожиданно подумал Седан. Эта страшная мысль почти ослепила его, заволокла тяжелым, обжигающим ядом все его внутренности. Хотелось вынуть револьвер, застрелить этого надутого индюка (без перьев) и застрелиться в конце-концов самому. Чтобы не стать свидетелем этого ада.
Этот выхолощенный старик настаивал на исполнении приказа, не подкрепляя его никакими ссылками на вышестоящее начальство из штаба Лионской бригады. «…Вы должны знать, полковник, как важен этот участок фронта, на котором дислоцируется ваш полк, — горячился заслуженный генерал; его выхоленная, аккуратно подстриженная бородка o-la Луи Наполеон была похожа при этом на атакующий таран, который грозил смести все и вся на своем пути. Шествуя по широкой, отрытой по полному профилю траншее, он приставал к толпящимся солдатам: « Отважные солдаты! Храбрые пуалю! Вы готовы умереть за идеалы Французской республики? Да или нет, ребята? – он обводил нелепые фигуры солдат своими выцветшими голубыми глазами. — По вашим лицам… вашим прекрасным, героическим глазам, преисполненным долга, я вижу: да, они готовы! И впрямь готовы…» Внезапно он положил руку на плечо мешковатому, тяжеловесному Голье из Тулона. Тот, чумазый и грязный (числился при артиллерийской разведки, этой ночью лазил по ничейной полосе) вытянулся, как приткнутый сабельный штык. «Молодец, парень! – гаркнул боевой, распетушившийся старикан. В небесно-голубой кепи с золотым позументом и щегольском плаще с прелиной он и впрямь походил на общипанного петуха. – Я вижу перед собой героя. Полковник, — с небрежной лаской обратился он к Седану. – Прошу вас подготовить списки представленных к награде. Занесите его… да, его… — он ткнул пальцем в браво выпяченную грудь Голье, — …фамилию в первую графу. И никаких оправданий! Я лично приколю к этой широкой, мужественной груди розетку ордена Почетного легиона…» Рядовой артиллерийской разведки, чье имя и так значилось в данных списках, повел себя достаточно странно. Он прикрыл лицо, широкое и грязное, под круглым исцарапанным шлемом огромной красной пятерней. Сквозь израненные о колючки и камни массивные пальцы донеслись хлюпающие звуки. Голье, никого не стесняясь, рыдал. Кажется, он уже почувствовал приближающуюся беду. «Странные у вас солдаты, мосье, — съязвил адъютант генерала Луи Этьен, прыщавый юнец с витыми аксельбантами – Неужели они и в бою плачут? Под пулями и осколками проклятых бошей…» Взглянув в лицо Седана, он воздержался впредь от подобных комментариев…
…Огюсте был так добродушен, потому что боши обстреляли его штабной «Паккард» десятком шрапнелей. Старается показать, что у него поджилки не трясутся и рейтузы из лионского шелка не подмокли, со злорадством подумал Седан. На самом опасном участке Луазанской дороги, которая тянулась грязно-коричневой змеей вдоль деревушки с сожженными виноградниками, с грудами камней вместо домов и крышами, что были исклеваны снарядами и минами. В туманном горизонте с лилово-серыми тучами боши вывесили аэростат, с которого артиллерийский наблюдатель удачно корректировал огонь батарей. Шрапнелей оказалось вполне достаточно, чтобы красноречия у него прибавилось, а ума значительно убавилось. «Да, мой друг! Этот приказ.… — продолжал он, все больше распаляясь. — Да, вы ждете приказа, и я вас отлично понимаю. Однако со времен нашего успеха на Марне настали другие времена. Фронт утратил свою подвижность и превратился в сплошную линию окопов и проволочных заграждений. Противоборствующие стороны уничтожаются огнем артиллерии, бомбометов, огнеметов и отравляющими газами. Возможно также применение неких бронированных монстрах на огромных металлических катках, со стальными лентами вместо колес. Говорят, их металлический скрежет способен испугать самого дьявола! Впрочем, это только слухи, мой мальчик… — мосье генерал почесал пальцем кончик носа с седой волосиной. Довольный силой своего внутреннего убеждения, Шарль Огюсте продолжал, точно одержимый демоном либо ведомый святым духом. — Потери при этом только утроились, и вы это прекрасно давно знаете, мосье! Точно также, вы знаете другое: среди солдат и младших офицеров брожение, вызванное скрытой революционной пропагандой, за которой, несомненно, стоят германские агенты и мосье социал-предатели. Уверяю вас, что каждый лишний день и час бесплодного сидения в траншеях только усиливает антиправительственные и антивоенные настроения в армии. Если мы хотим воевать, мы должны драться, черт возьми! Да, драться! Атаковать и еще раз атаковать врага, как бы дорого нам это не обошлось, полковник Седан! В противном случае, нам вскоре придется поднимать людей в атаку зуботычинами, а то и огнем своих пулеметов или батарей. Как вам это понравиться, мосье? Никак!?! Что ж, превосходно! А то я, ваш добрый ангел-хранитель, уже начинал сомневаться в вашей истинной лояльности. Всякая затянувшаяся пауза есть подоплека лжи. Разумеется, к вам, мой друг, это ни в коей мере не относится…» Все это неизбежно приведет к бунту, сказал внутри человека внутренний голос Седана. «Кажется, я понимаю вас, мой генерал, — сказал полковник Анри Седан, заметно нахмурив черные брови под козырьком своего голубого кепи с золотым позументом. – Как нам быть с потерями в предстоящей операции? Ведь они предполагают быть огромными.… Не так ли, мой генерал? Видимо, что-то около шестидесяти или семидесяти процентов от всей численности полка. Позвольте вас спросить, мой генерал: не думаете ли вы, что колоссальные человеческие жертвы в ходе скоропалительной боевой операции.… Ну, словом, это может только подхлестнуть так называемые нелояльные настроения в тылу и на фронте…»
— Мой генерал! Мне думается, что боевой дух солдат можно поднять иными средствами, — шествуя по длинному, извилистому ходу сообщения, Седан был неутомим. – Вот сюда, пожалуйста. Осторожнее! Тут солдаты развесили свое белье…
— Черт знает что! – вспылил генерал. Перед глазами старого вояки оказались чьи-то розовые кальсоны с перламутровыми пуговичками. – Развесят свое белье там, где не следует. Кто командует данным сектором обороны? Командира роты… нет, взвода! Капрал, — уже спокойнее обратился он к группе солдат за бруствером. – Уберите эти чертовы тряпки с моего пути. Я приказываю…
Тут их беседа была прервана шелестом «чемодана», выпущенного из крупповской «малютки», что расположились по ту сторону холмов от Бульвиля. Ширкнув неподалеку в аппетитно чавкающую грязь, эта стальная колоссальная болванка замолкла навеки, в ожидании саперного взвода лейтенанта Де Ральмона. (Он, впоследствии, его и обезвредил, вывинтив из носовой части алюминиевую дистанционную трубку и взрыватель.) Следующие три «чемодана» разорвались неподалеку, взметнув над дощатыми брустверами высокие снопы черной, как смоль, земли. Кругом завыли бешено крутящиеся осколки рваного железа, в поисках живого человеческого тела. Бригадный генерал Огюсте (как будто осознав это) присел, оттопырив полы небесно-голубой накидки с прелиной. «…Как-то слишком театрально у него это вышло, — услышал из уст телефониста Пелена полковник. – Если б наш генерал был оперной примой из Ласкала или Гранд-Опера…» Не оборачиваясь, Седан показал шутнику со спины кулак, затянутый в коричневую замшу офицерской перчатки. Со спины хрюкнуло и булькнуло. Кажется, бригадный генерал так ничего и не расслышал, с облегчением подумал полковник. Сворачивая с Огюсте и Этьеном (адъютант отвернул кальсоны, чтобы угодить генералу) в извилистый ход сообщения, он услышал за собой раскаты неприкрытого, откровенного хохота…
— …Мой генерал, мои люди не готовы к исполнению таких подвигов во имя идеалов свободы Франции, — попытался умаслить его Седан. – Полк наполовину состоит из новобранцев, не обстрелянных даже во второй линии траншей. Их жены и матери, мосье… Мы за них в ответе перед Богом и Францией.
Однако «мой генерал» Шарль Огюсте был непреклонен. Это было совершенно явственно для его служебной карьеры, на туманном горизонте которой замаячил перевод в штаб армии. Со временем, его «ожидали» во 2-ом Бюро Генштаба. Он также намекал на повышение и возможную карьеру в качестве офицера Генштаба (возможно, и военной разведки) самому Анри Седану. В случае же неподчинения мосье полковнику угрожал военно-полевой трибунал. Как известно, тот был скор на расправу. Особенно с теми, кто выказывал открытое неповиновение воинской дисциплине. Хотя бы давал повод усомниться в своей лояльности. Впрочем, было ясно, что генерал не думает играть роль примитивного злого демона. В доверительной беседе за чашкой кофе с парижскими булочками круасан, угостив своего подчиненного сигарой, генерал воззвал не к патриотическим чувствам, но к интересам всего цивилизованного человеческого разума.
-…Подумай сам, Анри, — неожиданно ласково обратился он к полковнику, потрепав его для верности за плечо, стянутое портупейным ремнем. – Ты предлагаешь поступиться основными принципами военного времени, без которых мы потеряем всякую надежду на победу. Конечно, я ценю твое желание бороться за жизни твоих соотечественников. Гуманизм украшает тебя как истинного патриота. Однако ты заблуждаешься в своих оценках этого человеческого дара, который делает нас непохожими на других представителей органической жизни на этой планете. Задумайся над тем, кто гибнет в тех непрестанных войнах, которые за всю историю свою ведет человечество. Ведь это отбросы общества, Анри! Парижская голытьба с Монмартре! Сыны шлюх и воров… Войны затеваются во имя святого дела – очищения человечества от подобных недочеловеческие организмов, которые вредят ему изнутри, точно самые губительные болезни. И ты должен знать об этом, мой мальчик. Проникнись этим вечным знанием – ты поймешь, ради чего Великая Матери Природа порождает таких титанов духа, как ты…
— Вы мне льстите, мой генерал, улыбнулся полковник. – Титан духа – Анри Седан… Звучит заманчиво. Даже весьма. Но я не титан духа. Я обычный человек. Солдат французской республики.
— Я тоже, мой мальчик, — улыбнулся генерал. – Я должен выполнить приказ своего начальства и выполню его. Во что бы то ни стало, милый Седан. Как и ты…
— Воры и шлюхи… — Седан проводил взором группу солдат, переносивших тяжелый пулемет «Виккерс-Рено» и оцинкованные коробки с лентами. – Интересно, что бы сказали их матери…
Попрощавшись со своим дивизионным начальником, Анри Седан, отбыл из местечка Шаньо, где располагался штаб Лионской бригады. Был он, однако, человек молодой для золотых позументов и звездочек полковника французской армии. Начал службу с 1904 года по окончанию парижской военной школы, получив назначение в колониальную армию. Участвовал в боевых операциях в Марокко против местных воинствующих племен, не желавших принимать плоды цивилизации на штыках пуалю. За спасение командира полка Иностранного легиона, участие в пленении одного из мятежных шейхов и ряд других героических эпизодов был представлен к республиканскому кресту на пурпурной ленточке. К началу войны, будучи в звании майора, числился в должности помощника командира 145-ого пехотного полка, подчиненного к началу военных действий на Западном фронте командованию Лионской бригады. Полковник Анри Седан, как значилось в служебной карточке, был «…офицер, подающий надежды на рост по службе, так как обладает для этого всеми необходимыми качествами, в числе коих: целеустремленность, самоотверженность и исполнительность». В этом документе также было отмечено ярко выраженное аналитическое мышление, преданность воинскому долгу и идеалам Французской Республики, товарищам по службе и прочие положительные качества. Можно было представить образ ослепительного служаки-донжуана: напомаженные черные усики, лакированные штиблеты и тонкий мундир небесно-голубой саржи… Все это, вместе и порознь, сводило с ума юных дам. Очаровательных прелестниц: модисток, швей, красоток парижских кабаре, цветочниц и оперных див… (Обольстителем женских сердец Седан не был, но по причинам иного свойства, чем иные офицеры, томно подкрашивающие губы и наводящие на глаза тени.) Готового пронзить саблей в Булонском лесу любого обидчика. Или продырявить его средством поновее – пустить пулю в лоб… Либо бумажного червя, что мог часами сидеть за топографическими картами и прочими оперативными документами. Что недостойно в представлении каждого, мало-мальски чтящего законы древних мушкетеров Дюма, истого француза-офицера. Если, конечно, французский классик не врал, когда воспевал «свою» правду. О «глупом» и «кровожадном» кардинале Ришелье, что спас Францию от междоусобных войн на почве реформации и требующих своих прав представителей третьего сословия, попираемого ненасытными дворянами и прожорливым духовенством. И ухарях-мушкетерах, что выгораживали распутную королеву, Изабеллу Испанскую, втрескавшуюся по уши в британца Бекингема – типичную британскую шпионку, мосье и мадам…
Полковник Анри Седан действительно воплощал собой многие человеческие добродетели и проявлял должное усердие по службе. Хотя был не без греха. Говорил на эту тему фривольно: «…Когда Господь создавал мир, где в равной степени уживается Он и враг рода человеческого, козлоногий бородач и сатир, Наш великий Создателей знал, что творил…» В свободное от службы время Анри Седан любил выпить, поиграть в карты и биллиард. Само по себе, это не считалось преступлением, если бы… Полковник обожал замужних женщин. Будучи в Марокко застрелил майора Иностранного легиона, в обворожительную супругу которого откровенно «втюхался». (Своего соперника Седан уложил не в честном поединке, а при попытке того напасть с оружием в руках. Поэтому полевой трибунал совершенно оправдал его.) Будучи в тесном офицерском кругу, играл на пари, что та или иная обворожительная мадам станет его пассией в такой-то или такой-то срок. Частенько он оказывался в победителях. Тому были причины.
В далекой молодости, будучи кадетом парижской военной школы, Анри Седан страстно влюбился в молоденькую горничную. Она приехала в столицу мод из Шампани и нанялась в дом семейства Седан за тридцать пять франков в неделю. Сезанна Легустьен ответила ему взаимностью очень скоро. Очарованная перспективой вырваться в свет, она оставила далеко позади шумную и убогую провинцию. Близился торжественный выпуск из парижской военной школы. По окончании которой, на синем с красным мундире по мановению республики оказывалась золотые звезды лейтенанта французской армии. Честно говоря, он надеялся на родительское милосердие по истечению длительного срока службы в далеких, знойных доминионах. Однако судьба или сам Господь Бог распорядились по-своему с его планами. Прогуливаясь в полной форме, с галунами и эполетами, при сабле и шпорах на выходных сапогах по бульвару Мажонте, он заметил знакомую женскую фигуру в кокетливой шляпке с сиреневыми цветами. Красавица Сезанна, казалось, одиноко сидела за столиком одного из многочисленных уличных кафе под полосатым тентом. Однако что-то удержало Анри от безудержного порыва подойти к ней. Взять за плечо.… На столике перед ней лежал прямой в металлических ножнах кавалерийский палаш, лимонно-желтые нитяные перчатки и синий кепи с красным помпоном с перекрещенными на тулье клинками. Это был страшный удар! Причем, в начале самостоятельной, зрелой жизни. Нет, этого не заслужил наш состоятельный и благородный юноша, который и кошки не обидел в свои неполные восемнадцать лет. Он держал это страшное потрясение в сердце своем и душе своей по сей день. Несмотря на все пережитые им тяготы колониальной и европейской войны эта кровоточащая рана не давала ему покоя. Даже под огнем германской артиллерии, в ядовито-желтых клубах фосгена, который выжигал собой всю растительность на переднем крае, превращая его в безжизненную, почти лунную пустыню, изрытую кратерами воронок и марсианскими бороздами отрытых траншей с вьющейся щетиной проволочных заграждений. Все ужасы Дантовского ада казались ему ничем с потерей любимой и потерей любви…
…Изувеченная боями панорама предстала перед ним по возвращению из штаба Лионской бригады. Поле предстоящей битвы походило на его душу. Честно говоря, Анри Седан за несколько военных лет привык к разлагающемуся месиву трупов, к зловонным запахам мертвых и еще живых, давно не мытых, облепленных вшами тел под коростой грязи на приходящем в негодность обмундировании. Разглядывать в мощную стереотрубу нейтральную полосу с беспорядочно выброшенной наружу землей вперемешку с кольями и пустыми мешками, с блестевшей, как антрацит, грязью было ему не в диковину. Он поймал себя на мысли, что люди сами заслуживают такой судьбы. Они являются зачинщиками этой ужасной, братоубийственной бойни. Кто ее развязал, если не мы сами – представители разумной жизни на этой несчастной, но прекрасной планете? Да, только мы и никто больше.
…Шелест снаряда и лохмато-черный сноп взрыва, что взметнулся, казалось, перед самыми окулярами стереотрубы, заставили его вздрогнуть. Он на мгновение закрыл уставшие глаза. Ощущение, что привычный, здешний мир как-то вдруг перевернул его сознание и приобрел почти нереальные, призрачные очертания, никогда не покидало его. Лохматые черные всплески взрывов, пронизанные изнутри рыжими молниями, напоминали ему с недавних пор извержение адских вулканов. Скрытые до поры до времени в недрах земли, они нашли себе выход на поверхность через яростные, слепые потоки человеческого зла. Неистовое стрекотание пулеметов в тщательно оборудованных гнездах, что были выложены накатами из бревен и обложены мешками с землей, а то и с бетонным покрытием, казалось ему скрежетом зубовным. Или работой неких, изощренных дьявольских механизмов, способных своими леденящими душу звуками подчинить слабую человечью душу. Направить ее живительную, благородную силу в русло страшной истребительной возни. Говорившие вокруг люди (вернее, призраки или тени живых существ), облаченные поверх шинелей в грязные клеенчатые плащи с навьюченными одеялами, в шерстяных подшлемниках под железными шлемами, издавали порой неестественные, нечеловеческие звуки. Полные рычания и шипения, а то и металлического лязга, который ему хотелось назвать симфонией зла. Зловещая музыка съедала ему внутренности и сжигала его душу. Можно было и впрямь сойти с ума, если впустить в себя катафонию зловещих звуков. У многих из своих подчиненных, будь то солдаты, сержанты или младшие офицеры, он с некоторых пор видеть в глазах этот перевернутый мир. Нередко Седан думал о том, что будет с этими людьми, если они сохранят в себе это адово подобие жизни и привнесут его в обычный мир. Да, произнес про себя мосье полковник, разглядывая сквозь мощные окуляры изрытый снарядами и минами безжизненный ландшафт с одинокими, чахлыми деревцами, относительно этих потерянных людей генерал возможно прав. Бороться за жизни своих солдат нужно, не говоря уже о сохранности жизни человеческой — сухими веками…
В то же самое время очередь «чемоданов», пущенная со стороны глинистых неровных возвышенностей, где расположилось германское тыловое обеспечение, превратила на мгновение панораму переднего края в жерло кипящего вулкана. Языки неистового пламени и клубы грязного дыма вперемешку с камнями, землей и прочими бесформенными обломками выплескивались наружу, как чьи-то сатанинские проклятия. Боши явно вели пристрелочный огонь по ничейной полосе, отрабатывая возможное французское наступление на этом участке фронта. При этой мысли полковнику Седану стало страшно до холодного, липкого пота. До германского переднего края с четырьмя линиями проволочных заграждений, между которыми были установлены мины-фугасы натяжного действия, было около трех миль. По совершенно ровной, как плато, местности, лишенной каких бы то ни было возвышенностей или углублений. Кроме множества воронок от давних и недавних взрывов. Передвигаться по такой равнине под ураганным артиллерийским огнем, к которому на ближней к бошам дистанции прибавятся пулеметы, огнеметы и бомбометы, что в бетонных и земляных дотах, было равносильно добровольному самоистреблению. Итак, больше половины моих людей, что мирно рассредоточились сейчас по траншеям и блиндажам, должны погибнуть, подвел итог своим душевным мукам полковник. Тут он со всей явственностью ощутил, как невидимый хладнокровный убийца, что действовал изнутри как хищная кошка, незаметно овладел его человеческой сущностью. Ему было все равно, сколько завтра погибнет на этом изрытом воронками, отравленном фосгеном поле солдат в круглых голубых шлемах со значком рвущейся гранаты, голубоватых или синих (сохранившихся с до мобилизационных времен) шинелях. Правда, с этим подступившим к нему чувством необходимо было бороться. Это он, полковник и человек Анри Седан, тоже знал. Как и то, что борьба эта происходила на том невидимом участке фронта, который зовется душой человека.
Призвав на совещание о предстоящем наступлении на местечко Сент Антуан своих младших офицеров, полковник Седан был предельно краток. Он был похож на сурового судью, оглашавшего нелицеприятный, но неизбежный приговор. В своем слове, адресованном к присутствующим лейтенантам, капитанам и майорам 145-ого пехотного полка, он обратил внимание на важные обстоятельства.
— … Вчера вечером при встрече с командиром Лионской бригады генералом Огюсте мне было приказано завтра на рассвете силами вверенного мне полка перейти в наступление и отбить у бошей местечко Сент Антуан. По данным разведки, армейской и фронтовой, включая донесение нашего отдела разведки, у противника на данном направлении – мощный оборонительный узел. Оборона бошей представляет собой четыре ряда траншей полного профиля в первом эшелоне, удаленных друг от друга на сто метров. Четыре ряда проволочных заграждений с фугасными зарядами в промежуточных полосах, — рука полковника Анри Седана в коричневой лощеной перчатке водила стеком по карте, где черной тушью были нарисованы опорные пункты врага. – Присутствуют также четыре долговременные огневые точки, приспособленные под фланкирующий обстрел местности одновременно и поочередно из четырех амбразур. Два крайних дота бетонированы. Толщина наката полтора метра. Далее, друзья… — полковник Седан нахмурился и провел пальцем по переносице; его красное, шелушившееся от холода лицо с темно-карими, выразительными глазами приобрело измученное выражение. – По нашим последним данным, на этом участке фронта произошла перегруппировка сил противника. Саксонцы из состава 35-ого корпуса оставили занимаемые ими позиции. Перед нами стоит Веймарская гренадерская дивизия, которая хорошо знакома нам по Марне. Мы остановили их тогда, когда они были на подступах к Парижу, одолеем и теперь. Если, конечно, сильно постараемся.… — Седан засопел как паровоз. — Итак, диспозиция на завтрашний день: в шесть ноль-ноль – артиллерийская подготовка, которая проводится силами полковой и дивизионной артиллерии; в шесть двадцать пять – начало атаки, сигналом к которой послужат два затяжных свистка и один короткий. В течение часа мы должны будем пройти три мили. Около получаса нам отводится для того, чтобы преодолеть проволочные заграждения противника и уничтожить оставшиеся фугасы. Ровно столько же, друзья, на преодоление траншей первого эшелона обороны. Штурмовым группам, основным и вспомогательным, необходимо будет безо всякого промедления справиться с остатками очагов сопротивления в пулеметных и бомбометных гнездах… Вопросы, мосье?
— Полковник, прошу прощения, если я не понимаю в чем суть поставленной перед нами задачи, но… как нам выполнить этот приказ? – спросил одними губами пехотный капитан, Пьер Гишар. Это был бледный и рыжеватый человек с бородкой и усами, что делало его похожим на командира Лионской бригады. – Неужели в штабе полагают, что за двадцать минут артиллерийской подготовки можно подавить все огневые точки бошей? Мы потеряем больше половины от всего личного состава. Если атакуем оборону врага в лоб, по открытой местности, без проведения необходимых фортификационных работ…
— Капитан, если это произнесено вами – от сердца, исполненного любовью к солдатам, это делает вам честь, — прервал его полковник Анри Седан, отложив стек с сияющим медным набалдашником на круглый инкрустированный стол, что был найден в одном из разрушенных домов предместья. — Однако генерал отдал мне приказ, который мы обязаны выполнить. Последствия в случае нашего неподчинения могут быть самые ужасные. Не мне вам это объяснять, капитан. Вы хотите нам что-нибудь предложить, мосье? Если нет, то не отнимайте время. Итак, друзья, прошу вас проверить часы и разойтись по своим командным пунктам. Завтра нам всем предстоит нелегкий день.
— Полковник… — лейтенант Де Биенье спрятал глаза под стальной шлем с эмблемой рвущейся гранатой. – Если мои люди побегут или откажутся идти в бой, как это было у других – что мне тогда делать? Я не буду в них стрелять, мосье. Никакие приказы, никакой полевой трибунал не обяжут меня сделать это.
— Это только пол беды, мосье, — засопел в усы майор Дарни, командир роты связи. – Мои телефонисты и телеграфисты… к ним, как водится, в первую очередь приходят дурные вести из штаба бригады. Второму Бюро за ними не угнаться… Так вот, один из моих связистов утверждает, что слышал разговор по аппарату. Будто, звонили из штаба бригады. Предупреждали, что на второй линии произошла замена. Лионцев сменил полк сенегальских стрелков. Они готовы будут по первому приказу Огюсте расстреливать из пулеметов бегущих. Наших пуалю, наших ребят…
— Мои ребята не заставят себя ждать, — произнес кто-то невидимый. – От этих мавров и сопливого следа не останется, если я отдам приказ кинуть гранаты…
— Французы не воюют с французами, мосье. Пока не перебиты все боши, нам не стоит убивать друг-друга…
— Молчать! – тихо произнес Седан. Все видели, как его рука в лощеной перчатке метнулась к кобуре с револьвером. – Молчать, я приказываю… Всем немедленно спать, мосье. Я уже сказал: завтра нам предстоит нелегкий день. Даже русский полководец Кутузов, как пишет об этом Лев Толстой, накануне сражения под Аустерлиц приказал своим подчиненным выспаться. Он знал, что дело будет проиграна. Но мы ведь собираемся одолеть врага, мосье? Так-то…
Когда все офицеры, шаркая измазанными штиблетами, покинули командирский блиндаж, Седан остался совершенно один. Он задумчиво посмотрел фотокарточку Сезанны, которую всегда носил во внутреннем, обшитом замшей кармане френча с золотым галуном и звездами на стоячем воротнике. Она и сейчас казалась ему прекрасной, с распущенными каштановыми волосами и соломенной шляпке «канотье» с голубым необъятным бантом, похожим на диковинную бабочку или крылья Ангела. (Карточка была с красочной ретушью от фирмы «Salon Ms. Pedan, 1904, 11 aprel.) Она сама будто бы сошла с небес. Но почему она так поступила со мной, в который раз, с жесточайшей горестью подумал Седан? Как шлюха, как последняя девка с панели Монмартре. Это она сделала меня таким, бесчувственным и жалким. Я всего лишь уговариваю себя, свой ум, пожалеть всех, кто идет завтра в этот страшный, роковой бой. Я уже не чувствую и не вижу в них людей, в этих славных ребятах-пуалю. Какой вы мерзавец, право. Бесчестный мерзавец, дражайший мосье полковник! Будучи не в ладах с собой, чувствуя прилив знакомой ему по Марокко тяжести, подступившей к голове, он стремительно вышел наружу. Прохладный воздух объял его. Небо над траншеей, обшитой жердями и устланной досками и бревнами, под которыми хлюпала грязь, было покрыто миллиардами жемужно-золотых звезд. Они пульсировали разноцветными огнями, будто посылая свои сигналы зажравшемуся, возомнившему о себе человечеству. Ему показалось, что одной из этих звезд была Сезанна Легурье. Она как будто говорила с ним. «…Не забывай меня, милый Анри! — шептала девушка, закрывая прекрасные голубые глаза, намокшие от слез. – Я помню каждый твой шаг, каждый твой вздох. Как ты впервые робко обнял меня в домашней зале, у камина. Я люблю тебя, как и прежде, милый. Не верь тому, что видел…»
По траншее мимо него проследовали две англичанки, упакованные в твидовые полуспортивные костюмы. Это была прибывшая еще вчера корреспондент «Daily Telegraph» миссис Бригс, высокая и спортивная дама, а также «окопная туристка» и ее подруга мисс Беркли. Их сопровождал высокий, с закрученными, черными, как смоль усами, офицер с золотыми молниями на белой шелковой повязке – дежурный, капитан Д` Алькан. С ним Седану предстоял очень серьезный разговор, который все откладывался в долгий ящик. Англичанки до смерти надоели мосье полковнику. Они лазили и днем и ночью по ходам сообщений, делали фотоснимки позиций и солдат (за плату), постреливали из карабинов «Мас» в сторону бошей (за дополнительную плату), откуда неизменно раздавалась ответная, ружейно-пулеметная пальба. Нередко из-за них случались потери. Седану хотелось выгнать обоих дам за пределы части, но этому препятствовал генерал Огюсте. К тому же муж мисс Бригс служил в штабе английского экспедиционного корпуса. Ссориться с союзниками, понятное дело, не хотелось…
— Скучаете, мосье полковник? – улыбнулась желтоватыми, лошадиными зубами миссис Бригс. Она обдала его плотной завесой английских духов. Щелкнув крышкой портсигара, протянула рукой в замшевой перчатке длинную ароматическую папиросу. – Угощайтесь, мосье.
— Благодарю вас, миссис, — Седан осторожно, двумя пальцами принял папиросу. Спрятал ее в нагрудной карман небесно-голубого френча. – Дышите свежим воздухом? Любуетесь звездами?
— …Дорогая, мы здесь долго не задержимся – ведь верно? – мисс Беркли, окинув Седана злым взглядом, взяла подругу под локоть.
— Оставь свою ревность, Милли, — Бригс слегка отстранилась и подошла к Седану плотнее. – Идите с ней, капитан. Я вас догоню. Мосье полковник решил любезно составить мне компанию. Нам будет, о чем поговорить под звездами, — она окинула тревожно-завороженным взглядом небо, усыпанное разноцветными пульсирующими точками. Засмеялась слегка глуховатым, хриплым смешком.
Обозленная миссис Беркли, окинув убийственным взглядом Седана, его ладную, подтянутую фигуру с золотыми нашивками на левом рукаве, стремительно удалилась с дежурным. «Капитан, зайдите ко мне, когда закончите свои дела», — бросил ему вслед полковник. Д` Алькан остановился и вздрогнул, будто получил удар палкой по спине. О теме предстоявшей беседы, он, кажется, догадывался.
— Мне хочется предложить вам, полковник, стрельбу, — усмехнулась миссис Бригс. Она вложила ароматическую папиросу в инкрустированный серебром муншдук. Прикурила от зажигалки Седана. – Совместный огонь по окопам, где засели кровожадные гунны, готовые испепелить всю Европу. Думается, это вас развлечет. Кстати…
— Слушаю вас, мисс, — Седану вдруг подумалось, что англичанки живут меж собой как женщина с мужчиной. О подобной любви, называемой содомским грехом или лесбийской, ему приходилось слышать. Нередко отдел военной цензуры перехватывал письма солдат, где говорилось о подобных связях в тылу, в коих были уличены мужьями их женушки. Мужчин в тылу поубавилось. Вот и ищут дамы развлечений на своей стороне. Мужеложство тоже давало о себе знать и в тылу, и на фронте. – Мне понравился оборот «кстати» в вашем очаровательном исполнении.
— Благодарю вас, мосье, — миссис Бригс улыбнулась так, будто намеревалась проглотить его живьем. Зубы у нее были и впрямь лишены привлекательности. Зато глаза… Огромные, как озера, зеленые с искрой. Нос был прямой, как у Афины Паллады, чья мраморная статуя высилась на входе в Лувр. Пышные рыжеватые волосы были, согласно фронтовой инструкции о гигиене (дабы не подхватить паразитов) накоротко острижены, забраны под толстый шерстяной свитер, что имел воротник-капюшон. На бесформенной от коричневато-серого твидового костюма груди висел фотоаппарат и полевой бинокль в чехле. – Так вы согласны составить компанию милой амазонке? В пулеметном блиндаже нам обоим хватит места…
Они провели за станковым пулеметом больше получаса. Миссис Бригс выпустила пол ленты. Она стреляла не зло, но сосредоточенно. Так, будто выполняла несложную, но рутинную работу. (Ее подруга, мисс Беркли, злилась при мысли от того, что ее пули, возможно, не попали в цель. Свои мысли она, не стесняясь, выражала в слух с помощью французской и английской брани.) Оранжево-красное, треугольное пламя из расширяющегося воронкой ствола «Виккерс-Рено» озаряло пульсирующим, колдовским светом ее вытянутое, не лишенное миловидности лицо. Стреляла бы из пулемета на позициях своего муженька, недовольно подумал Седан. Обезумившая леди Винтер…
— Надеюсь, вы получили полное удовольствие от стрельбы? — Седан почти не чувствовал холода в распахнутом на груди френче.
— Я еще получу полное удовольствие… Теперь ваш черед, — она отступила от пулемета. Жестом показала Седану, что нужно делать. – Надеюсь, вы не откажите даме.
Седан не отказал. Приложившись к гашетке, он выдал короткую очередь в сторону темной, изломанной холмами и чужими траншеями равнине. Боши точно ожидали этого. Взметнулось с десяток осветительных ракет. Зажглись бело-голубые, туманные дорожки прожекторов. По позициям полка стегнуло до десятка станковых MG-08, а также ручных MG-13 (Dreize).
— Вы попали в цель! – восторженно объявила англичанка. Улыбнувшись, как на светском рауте, она лодочкой протянула ему свою руку для пожатия. Перчатку она стянула. Седан мог оценить, что кожа у нее нежная и белая (лицо на ветру и холоде покраснело, местами шелушилось), а пальцы длинные и тонкие.
— Мне жаль, — Седан пожал ее руку осторожно, как будто это было взрывчатое вещество.
— Почему же? – англичанка подняла в изумлении брови. – Вы убили врага. Это, во-первых, мосье. Во-вторых, вами был удовлетворен здоровый мужской инстинкт. Сэр Чарльз Дарвин, мой славный соотечественник считал, что страсть к размножению, то есть влечению самца к самке, сопутствовала борьбе самцов за существование. Вы, — миссис Бригс бесцеремонно потрепала его тонкими пальцами по щеке, — отличный самец. Вы должны быть счастливы, что горсть свинца, выпущенная вами в сторону позиций, занимаемых другими самцами, нашла свою цель. Это же отлично, сэр!
Какая ж ты дура, подумал Седан. Вслух он этого не сказал…
Шествуя вместе к блиндажу, по ходу сообщения, они пропустили мимо двух санитаров, согбенных под носилками с раненым. У того пол лица было замотано бинтом, сквозь который проступали красные, как мак, пятна крови. Раненый с нашивками унтер-офицера бессвязно мычал. Силился встать на локти.
— Не стоит фотографировать, — сдерживаясь, Седан сделал предостерегающее движение. — Это я вам говорю как самец…
На подходе к блиндажу руки миссис Бригс обвили его шею. Влажные губы коснулись его губ. На какое-то время они слились в поцелуе, который был одинаково мил и противен ему. Память о Сезанне будила в нем совсем иные мысли. Не пришлось бы стрелять в ее мужа, полковника его Величества короля Британии со всеми колониями.
— …В Южной Африке я охотилась на тигра, — стремясь заглянуть в его мысли, зашептала она сквозь затянувшийся поцелуй. – Вместе с мужем, тогда еще майором Йоркширского пехотного полка. Нас было всего двое и слуга-туземец. Я увидела зверя совсем близко, в десяти ярдах. У него была оранжевая атласная шерсть на гриве и желтые, точно застывшая смола, глаза. Они живут во мне, эти тигриные глаза. В них притаилась смерть. Нелепая и случайная. Мой карабин «Виккерс», к счастью, сработал без промаха. Оранжевая в полоску шкура висит в моем кабинете. Вы – этот тигр, мосье Седан! Вы и только… — чувствуя, что Седан колеблется, она зашептала быстрее. — Ах, милое животное! Жуткий и прекрасный зверь! Ты должен взять меня, бессовестно и нагло, прямо в этой грязной траншее. Я жду твоей силы…
Вернувшись в блиндаж, Седан чувствовал себя липким и грязным. Как та траншея, в которой произошло это. Наскоро обмывшись, он причесал волосы, зажег керосиновую плитку. Вскоре в кофейнике забулькало. В дверь блиндажа робко постучали. Это был Д` Алькан.
— …Из «двойки» бригады спущено письмо, — Седан, ходил по блиндажу. Карбидная лампа зеленоватым светом озаряла происходящее. – Так вот, капитан, согласно этой бумаге ваша матушка родом из Саарсбрюке. В девичестве она была Клара Бруне. Все верно?
— Стало быть, я наполовину Эльзасец, — усмехнулся Д` Алькан. – Кровожадный бош в полку… Мне скорбеть по этому поводу?
— Не знаю, мосье, — усмехнулся Седан. – Садитесь, мой друг. Я не военная разведка и контрразведка. Но у меня к вам есть вопросы. Как вы сказали – у меня, бош в полку? Я не ослышался? Стоит подойти ближе…
Так как капитан молчал, опустив голову, Седан подошел к нему. Медленно прицелясь, он залепил Д` Алькану пощечину. Одну, вторую. После первого удара тот отшатнулся. Затем рука его скользнула к кобуре.
— Я не буду с вами стреляться, мосье, — усмехнулся Седан. – Напрасно думаете… Садитесь за стол. Возьмите лист бумаги в кожаной папке, — он следил как Д Алькан, точно бездушный механизм, выполнял его указания. – Пишите: «Даю слово офицера и гражданина Франции, что…»
— Я не буду писать эту ложь, — сквозь зубы молвил Д` Алькан. Он расставил локти. Положил перо. – Да, мосье, я бош. Германская кровь течет в моих жилах. Что дальше?
— Мне не нужны предатели, — Седан, упрев руки, наклонился над столом. Его лицо приблизилось к капитану. – Мне нужны офицеры и патриоты Франции. Попробуйте опровергнуть меня. Впрочем, если попробуете – у вас два пути. Здесь, где вы пустите себе пулю в лоб, и там…- мосье полковник показал рукой в сторону предстоящей атаки. – Идите в сторону траншей бошей…
— Вы шутите, мосье? – Д` Алькан посмотрел ему в глаза, никого и ничего не таясь.
— Мне не хотелось бы сдавать вас «двойке»…
* * *
Из дневника Анри Седана:
«…Я вызвал к себе капитана Д` Алькана с тем, что бы тот заверил меня, что не является германским агентом или прогерманским субъектом. Я не добился от него ничего определенного. На мое предложение обозначить свои взгляды, он ответил решительным отказом. Если капитан Д` Алькан – германский шпион (по информации агентов «двойки» он замечен в Саарсбрюкене с соответствующими лицами, зафиксированы беседы на определенные темы, как-то: Франция и Россия проиграет войну Германии, ибо от них отступился Господь), то его наглость или мужество – как будет угодно! – заслуживают уважения. Не могу не написать о том, как вел себя Д` Алькан-Бруне в атака на позиции б… (зачеркнуто) врага. Его батальоном был захвачен Главный дот, «Муравейник». Думаю, что германскому шпиону было бы трудно так воевать против своих. По крайней мере…»
Там же, день спустя:
«…Они что, с ума сошли! Осатанели!?! Его взяли по решению военно-полевого трибунала за трусость и хотят расстрелять. Расстреливать нужно того, кто отдал приказ артиллерийскому дивизиону открыть огонь по своим. Я ничего не могу сделать для него. Я достоин презрения. Дерьмо, какое я дерьмо…»
* * *
…Утром ровно в шесть ноль-ноль, скучившиеся в траншеях солдаты и офицеры 145-ого полка в шлемах, при полном боекомплекте, ранцах и винтовках с сабельными штыками услышали звуки артиллерийского рожка. За этим последовал раскатистый залп полковой артиллерии, состоящей из восьми шестидюймовых пушек. Вскоре по позициям бошей принялись работать орудия бригады. Расположенная под Шаньо батарея десятидюймовых гаубиц и батарея ста двадцатидюймовых осадных мортир принялись методично обрабатывать линии вражеских траншей с чуть заметными кочками пулеметных дотов. Полковая артиллерия утюжила проволочные заграждения. В клубах земли и темного дыма взлетали мотки колючей железной паутины с обломками кольев и деревянных рогаток, на которых была закреплена спираль Бруно. Орудия более крупных калибров сеяли смерть и разрушения в оперативном тылу бошей. В первую очередь, эти стальные гиганты с колоссальными жерлами, что выбрасывали тонные стальные «чемоданы», были призваны уничтожать вражескую артиллерию, опорные и наблюдательные пункты, склады боеприпасов, долговременные огневые точки под земляным, дровяным и бетонным покрытием.
Взирая на смертоносную работу артиллерии, полковник Анри Седан почувствовал некоторое облегчение. У него уже не было той тягостной дремоты, которая овладевала им с утра после бессонной от страданий ночи. Трех накатный командный блиндаж, в котором расположился он сам и штаб полка, надежно укрывал его от утреннего холода. Впереди, кипела и кишела огненно-черными, титаническими вулканами прежде знакомая, а теперь не привычная на глаз местность. В штабе не было той обыденной толкотни, каковая наблюдалась повседневно. Его подчиненные выглядели сурово и молчаливо; кто-то с вечера, а то и с ночи гладко выбрился. Мишель Копье, молодой еще парень из Марселя, что сидел перед полевым телефонным аппаратом «Эриксон», благоухал тонкими парижскими духами. Полковник Седан время от времени использовал полевую связь, уточняя обстановку и настроение своих подчиненных. Командиры батальонов отвечали ему сквозь щелчки и шум взрывов, что готовы к атаке; сержантам штурмовых групп выданы фугасные и фосфорные гранаты.
— Мосье полковник! Вас просит к аппарату полковник Курочкин из состава русского экспедиционного корпуса. Его полк, помнится, держит оборону на нашем левом фланге, — необыкновенно сухо отрапортовал молодой телефонист Мишель Копье. Худое, с легким золотистым пушком лицо под голубой каской тоже было чужим. – Вы будете говорить с ним, мосье полковник?
— …Мосье Седан, вы намерены атаковать германские позиции? – спросил его полковник Курочкин на том конце провода. Там, где занимал позиции русский полк из экспедиционного корпуса, что был отправлен во Францию по приказу царя Николая II после битвы на Марне, было тихо и спокойно. – Это будет один из самых черных дней в истории французского оружия. Задумайтесь, Седан. Мы оба солдаты. Вы служите французской республике, я же русской монархии. Но, прежде всего наше призвание – быть людьми и заботиться о других людях, мосье. В данном случае, речь идет о наших солдатах, которых не редко шлют на убой. Смерть за Отечество – прекрасная смерть…
— Вы призываете меня приступить военную присягу, мосье Курочкин? – прохрипел Седан, зажмуриваясь; кровь горячими толчками била в голову, препятствуя думать и чувствовать то, что происходило сейчас в этом мире. — Вы понимаете, к каким последствиям приводят такие «невинные» разговоры? Вы зовете меня совершить преступление, мосье! Вы с ума сошли…
— Нет, с ума я не сошел, мосье, — Курочкин настаивал на своем. Этим все больше нравился Седану. – Мы готовы поддержать вас огнем. В случае если по вам будет стрелять воинствующее племя с полумесяцем, — он намекал на сенегальцев, на шлемах которых был белый полумесяц и звезда, — мы также готовы поддержать ваших ребят. Огнем из всех орудий и пулеметов. Только по другим целям, мосье, — нарочито громко, словно адресуя это кому-то другому, добавил он напоследок.
Полковник Седан опустил трубку на рычаг полевого телефона. По стихающему гулу взрывов он определил, что артподготовка подходила к концу. Теперь начиналось страшное: атака в лоб по ничем не защищенной местности. На проволочные заграждения, земляные и бетонные укрепления бошей. Больше половины его людей должны были испятнать эту бурую, изрытую воронками землю трупами в небесно-голубых или темно-синих шинелях. Это было непоправимо, и это должно было случиться. Как вдруг…
— Полковник, если мосье Курочкин будет звонить вам – как мне поступить? – глаза Мишеля под голубым шлемом (Adrian, 16) значительно оживились. – Иными словами, вам передавать трубку? Или…
— Да, конечно, — полковник почувствовал прилив вины к сердцу, так как посмотрел на ручные часы. «…Седан, от всех несчастий, коими изобилует этот мир, — еще раз пронеслось в его голове. — Храните этот святой образок вечно, и…» До атаки оставалось десять минут. – Давайте трубку, Мишель…
В дали пронзительно заиграл артиллерийский рожок. Ему мелодично вторили офицерские свистки. Они выдавали сигнальные трели, зовущие людей в атаку. Вот оно, начинается…
— Атака начинается? – прозвучал женский голос на плохом французском. Это была миссис Бригс. — Мы не помешали? – она выглядела посвежевшей, будто сошла с полотна фламандского живописца.
— Мадам, прошу вас удалиться, — стиснул зубы полковник.
— Это вы говорите мне? – с вызовом произнесла миссис Бригс. – Вы еще пожалеете об этом, Анри…
— Убирайтесь к дьяволу, мадам, — сурово сказал Седан. Его взгляд медленно обволакивал съежившуюся англичанку. – Если я вернусь, то вернусь очень злой. Я ненавижу оставшихся в живых, — он незаметно подмигнул Копье, у которого трубка чуть не вывалилась из рук. – Так что убирайтесь. Мой вам совет.
— Подлец… — лошадиные зубы англичанки заскрипели. – Поганый лягушатник…
Полковник Седан на мгновение чуть не лишился чувств. Так сильно обожгло ему грудь. Под шелковой сорочкой был спрятан золотой образок, который подарил ему полковник Курочкин. После того, как русские заняли позиции на левом фланге, сменив там сенегальских стрелков из колоний, они пили в этом добротном блиндаже вино «Бордо» выдержки 1871 года. Праздновали будущую победу над «кровавым кайзером» и «кровожадными бошами» (Курочкин называл их «тевтонами»), то и дело произнося тосты за царя Николая II и французского президента Клемансо. После того, как в который раз столкнулись бокалы из севрского, мелодичного хрусталя, полковник Курочкин расстегнул крючки своего стоячего зеленого воротника с красным кантом. Снял с шеи книжицу из чистого золота с образом Святого Сергия Радонежского. Со словами: « Этот подарок охранит вас, мосье сохранит вас навсегда!» — вручил его своему французскому союзнику, которого этот поступок русского друга тронул до глубины души. Сейчас этот святой символ ожил. Он поразил Седана в самое сердце какой-то невидимой, явно не человеческой, но Божественной Силой. Было ясно, что пришла пора окончательного решения. Смолкала артиллерийская подготовка. Памятуя о том, что в ходе этой «блестящей» операции суждено было сложить головы сотням своих соотечественников, полковник Седан медлил. В этом ужасном, перевернутом до неузнаваемости мире, имя которому «война» и «смерть», все потаенные чувства его обострились. Он ощутил, что этот простой звонок по телефонному аппарату «Эриксон» имел судьбоносное значение. Ему надлежало сделать выбор между жизнью и смертью. Все было ясно и пугало, как пугает всякого смертного осознание правды. Либо он пошлет на верную гибель, повинуясь приказу генерала Огюсте и его таинственной морали о «вечном знании» своих солдат, которые, вжавшись в окопные брустверы, ждали сейчас сигнала. Либо, нарушит злодейский приказ, повинуясь законам совести, Вечного Судии, что было смертеподобно для него, офицера французской армии. Он обретет свое бессмертие в этом конечном, безысходном для всего человечества, проклятом мире. Так, во всяком случае, представлялась ему картина всего мироздания в настоящую, полную трагичности минуту…
Видя, как небесно-голубые с синеватыми крапинками цепи, блестя на Солнце длинными сабельными штыками, устремились в атаку, он бросился из блиндажа. Неведомая сила бросила его наружу, на пропитанный тротилом, спертый, душный воздух. Мглистый от дыма пожарищ, взлохмаченный от недавших взрывов горизонт медленно оседал в себя. Его неровная, изломанная полоса выравнивалась в его сознании. На ходу, надевая шлем, Седан несся вперед. Полы его суконного плаща с клеенчатой подкладкой (от дождя) развивались как крылья Ангела Смерти. Он распустил кожаные тесемки на груди – плащ унесло ветром… Скользя по антрацито-черной и коричневой грязи, перескакивая через опорные сваи и поднятый из траншей лесенки, он стремительно бежал вперед. Извилистые углубления, обшитые дерном, в которых только что пили, ели, чесались от паразитов, замаливали грехи и надеялись его люди, не были для него зримым препятствием. Он просто не замечал их. Почти физически он ощущал позади себя рыльца пулеметов сенегальских стрелков, осязал их напряженные, намокшие от пота смугло-коричневые или оливково-желтые, как сама грязь, лица. Небо далеко впереди, над передним краем бошей покрылось в дыму и копоти шнурами сигнальных ракет. Донеслись первые раскатистые залпы крупповских пушек. Ого, девятидюймовки! Несладко придется нам всем. И ему, следовательно, тоже…
* * *
…Только от этого меня увольте, милейший! – устало махнул чекисту собеседник. – Я не из тех господ или по-нынешнему товарищей, что бросаются словами на ветер. Туда-сюда… У меня несколько иные взгляды. В том числе, на сотрудничество с вами. Власть есть власть. Аппарат насилия, то бишь правоохранительные органы, ей, как говорят хохлы, треба позарез. Без них любое государство сгинет на корню. Это будет почище, чем глад или мор! Семь чаш с язвами, что в Апокалипсисе, покажутся детским развлечением! Поэтому, когда вы, милейщий товарищ… — собеседник нахмурил тронутые сединой, русые брови, затопорщил ладонью такой же, стриженный по-аглицки ус, — …уполномоченный ВЧК по Замоскворецкому району, согласно вашему мандату, берётесь распропагандировать меня на сей счёт… Будто наступит время, когда все будут равны, в том смысле, что не будет ни бедных, ни богатых, а карательные органы будут отсутствовать за ненадобностью… Мягко говоря, это наводит на размышления не в пользу вашей конторы да и вас лично.
— Бросьте! – юный чекист в синей кожанке и таком же примятом картузе, перепоясанный туго офицерскими ремнями, с маузером в громоздкой деревянной кобуре был неумолим. – Паче чаяний, наши лозунги верны и понятны! Это мысли древних схоластов и агностиков. Таких как Платон, Сократ… Ну, и христианских философов, включая Нагорную проповедь и Новый завет Иисуса из Назарета! Там что-то говорится про богатого и про угольное ушко, через которое этому богатому трудно будет попасть в рай. Если правильно вчитаться в десять заповедей Сына Человеческого, вот он – коммунизм! Вот оно – совершенное общество! А вы, милейший, говорите – утопия-с…
— Я так не говорил! – усмехнулся «милейший». – Тем более так – утопия-с… Терпеть не могу это лакейское «с». А что до совершенного общества, то помните: в откровениях Иоанна Богослова говорится о внутреннем дворе храма, что на небесах, и что будет спущен на землю. В канун Страшного суда. Толпы людей заполонят его внешний двор, но лишь единицы обретут двор внутренний. И Новый Завет, где говорится: «Много званных да мало избранных». Это как у Бердяева, что взялся проповедовать, будто искусство – удел избранной расы. Словечко-то какое, избранной! Псевдопророк…
— Бердяев?.. Это тот, кого в поэтических и философских салонах называли чёртоискателем? – нахмурил свои карие, круглые глаза юноша из ЧК. – Ну, да ни в нём дело. Дело по-прежнему в вас, дорогой Валериан Арнольдович. И в нас, новой власти. Что представляет интересы трудового народа. Той самой сермяжной, серой массы, что взялась за винтовки в августе 14-го. А сейчас требует мира без аннексий и контрибуции. А вместе с ним – насущного: фабрик, заводов и земли. Надеюсь, он заслужил всего этого, Валериан Арнольдович? Или снова введём подушные платежи! А рабочих заставим гнуть спину на военные заказы. Чтобы шрапнели и гранаты с Сормовского и Путиловского калечили на фронтах германского пролетария и германского хлебопашца? А владельцы этих заводов бесились с жиру…
— Мне ваша мысль понятна, молодой человек, — Валериан Арнольдович перестал крутить ус. – Я вот что подумал: а не пора ли нам присесть? В ногах, как говорится, правды нет.
Он прошёлся по круглой гостиной. Стены были оббиты зелёными шёлковыми обоями стиля «модерн» с портретами в золотом багете. С холста, исписанного маслом, смотрели привычные для старого времени и дикие для нового пейзажи. Парад на Марсовом поле, государь Павел Петрович в облачении мальтийского рыцаря, боярыня Морозова с рукой, вытянутой в двуперстии… В то же время – «Девушка с персиками», «Таинственная незнакомка», «Штурм снежного города»… Вот такие вот вкусы! Изящная мебель с выгнутыми спинками орехового дерева была покрыта замшевыми чехлами от пыли. В правом, то бишь красном углу теплился огонёк над лампадкой, светились золотом золотые оклады икон, с коих сурово взирал лик Спасителя, Богоматери и Архистратига Михаила. Сам хозяин, бывший полковник охранного отделения, что разгуливал в плисовом халате с серебренными кистями, с украинской фамилией Тищенко, симпатизировал большевикам и левым эсерам. Среди последних у него был сильный покровитель. Поговаривали, будто сам товарищ помпред ВЧК. Поговаривали…
— Ну так вот, милейший уполномоченный ВЧК, — Тищенко прохаживался вдоль стены с камином (гора дров была навалена в прихожей). – Ваш с позволения сказать мандат подписан товарищем Петером, полномочным представителем коллегии Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с бандитизмом и контрреволюцией. Видным членом партии левых эсэров. В прошлом… Теперь возникшем в этаком качестве: ловца человеков! Уже здесь мне видится одно непримиримое противоречие. У власти – две партии. Российская социал-демократическая рабочая партия, они же большевики. И товарищи левые эсэры. Они же некогда просто – социалисты-революционеры. А… Так ещё – товарищи анархо-синдикалисты. С товарищем артистом, Мамоновым-Дальским, его опиумными делами. Это не двоевластие – трёхвластие получается на Святой Руси! Не находите, что для сыска, иметь у себя в начальниках и подчиненных представителей трёх независимых общественно-политических течений, это самоубийство?
— Это вопрос времени, — опустил глаза чекист. Его плечи в синей коже, туго стянутые коричневыми ремнями, с хрустом заходили ходуном. – Мы этот вопрос решим, Валериан Арнольдович.
— Ага! Как во времена парижской коммуны. Или Великой французской революции. Мосье Гильотен поможет. Вру или нет?
— Ну, ни без этого. Однако, товарищ Петер прав. Новой власти нужны специалисты такого уровня, как вы. Тем более, сочувствовавшим нашему движению. Боровшихся с царизмом. Меня уполномочили вам заявить, что вы истребованы в должности консультанта по становлению и формированию органов ВЧК.
— Вот как? Ни много, ни мало… Я польщён, разумеется. Отвечу сразу: в любое время ко мне можно обратиться за советом. Или как изволил сформулировать свою мысль товарищ Петер, за консультацией. Пусть направляет ко мне с мандатом любого из своих сотрудников. Любого… — спокойные серые, но с хитрицой глаза бывшего полковника охранки скользнули по молодому, округлому лицу кареглазого молодца в кожане. – Предпочтительнее вас, разумеется. Лихо рассуждаете и анализируете. Знаете дореволюционных персоналий и их связи. Бердяев-то, наш… наш-наш, из агентов под прикрытием. А салон его и не только его – прикрытие для оперативных комбинаций. Так что, первый совет: возьмите на учёт «Б» этих господ. Всех до единого, кто до февраля и октября сего года ругал деспотию. И ждал «с надеждой упоения» в виде гражданских свобод, Учредительного собрания и демократической республики. По английскому или французскому образцу. Это всё наш контингент. Они по мере развала системы политического сыска стали перехватывать наши связи. И подчинять их.
— Учёт «Б»? Что это?.. – с сомнением и любопытством протянул молодой человек из «чрезвычайки».
— Ну это вам товарищ Петер лучше меня расскажет. Просто запомните и передайте. Что до остального, то — при вашем ведомстве нужно как можно скорее открыть специальные курсы обучения. Для ваших же сотрудников. Чтобы они мало-мальски знали, что и как им делать. Оперативные навыки это не охота на перепелов и не рыбалка. Этому учатся годами. К этому, мой батенька, призвание надо иметь. Вы думаете, набрали рабочих от станка, одели в кожу самокатчиков, вручили им браунинги или.. гм.. гм… и получились сыскари от Бога? Вы скоро сам почувствуете в себе, кто вы: оперативник от Бога или его жалкое подобие. Следует хотя бы учить кадры! Здесь я готов заняться преподаванием азов оперативного мастерства, криминалистики и баллистики. Буду отдавать всего себя.
— Спасибо, товарищ Тищенко! Обязательно передам Роману Оттовичу.
— Вместе с нижайшим поклоном. И ещё: покорнейше прошу – передайте, чтобы ко мне ходили только подготовленные товарищи. В прошлый раз пришёл некто Топорников, тоже уполномоченный. Так он за наган стал хвататься – за контрреволюцию готов был меня расстрелять!
Из скромности Тищенко умолчал, что прежде, чем Топорников извлёк из кобуры, которой он и пользоваться не умел, свой револьвер, то рухнул на ковёр гостиной. Дабы остаться в живых и вразумить молодого болвана, экс-полковнику охранного пришлось оглушить его хуком правой. Так как уполномоченный прибыл «на моторе», то Тищенко пришлось выволочь его с помощью швейцара на крыльцо. Сдать в заботливые руки чекиста-шофёра. А конфликт, как повод для хватания за наган, был пустяковый: Топорникову по всей видимости не пришлось по душе обращение «милостивый государь». А может, где-то нюхнул кокаину. То-то зрачки у него были навыкат.
Пред уходом, вежливо отказавшись от чашки цейлонского чая, чекист выложил Тищенко с десяток имён и фамилий, записанных на бумажке химическим карандашом. Она была извлечена из-за борта кожанки, сложенная вчетверо. Тищенко, уговорив его присесть за овальный стол с подсвечниками, затребовал список себе во временное пользование. Молодой чекист нерешительно подвинул разглаженную бумажку. Но краем ладони решительно вдавил её в зелёную шёлковую скатерть с узором «решилье». Напротив отдельных фамилий Тищенко, подумав, поставил синие или красные кресты. Другие просто подчеркнул серым отточенным грифелем. Этот список, согласно которому, одних лиц требовалось взять на работу в ВЧК, а других – забраковать и взять под наблюдение, остался загадкой для юного чекиста на долгое время.
— Имейте ввиду, что все сомнительные бумаги в сыскных ведомствах либо берутся на особый учёт либо немедленно уничтожаются, — неожиданно нахмурился Тищенко, возвращая документ. – В данном конкретном случае, держите его так, чтобы чувствовать, что он всё время при вас. Как сейчас – за пазухой вашей кожанки. Если такого рода бумага выработала своё, немедленно уничтожьте её. Ни с ходя с места! Лучше всего, сожгите. Любой клочок с цифрами, фамилиями или словами, в коих есть служебная тайна, если ему суждено затеряться, может сослужить плохую службу. Попади он к вражеской агентуре или даже к вашим нерадивым товарищам. Это как ружьё по господину Чехову, что когда-нибудь да выстрелит, если повешено на стену. Вы меня понимаете, товарищ Крыжов?
— Кажется, да. Как военная тайна на фронте: какие части стоят на передовой, каковы места их постоянной дислокации, снабжение… Одним словом, любое просачивание информации о противнике заставляет его противника действовать в этом направлении.
— Что ж, решительно вы начинаете мне нравится! Из вас выйдет толк. Можете это передать товарищу Петеру. А можете и не передать. От этого ничего не изменится. От чая вы отказались на этот раз. Попотчую вас им в другой. А пока позвольте вам, товарищ сыскарь, пожать руку. Честь имею!
Крыжов, едва не споткнувшись о уложенные тщательно дрова, вышел вон. За спиной кракнув английским замком, затворилась массивная дубовая дверь. Сбежав по извилистой лестнице в стиле ампир, с лепным потолком с амурами и психеями, Крыжов оказался на первом этаже. По обе стороны от мраморной лестнице, где расположились дворницкая и дворецкая, высились скульптуры Титанов, что держали на своих мраморных спинах арку. Слабо горели электрические светильники в стеклянных плафонах. За стеклянными дверями на пневматическом запоре высился саженного роста швейцар в коричневой ливрее и расшитой золотом фуражке. На его груди сквозь седую бороду просвечивали чёрно-оранжевые ленточки четырёх «георгиев». Полный «егориевский кавалер», как сказали бы на фронте.
Выйдя на крыльцо парадного ( дверь была предусмотрительно распахнута), Крыжов непонятно почему отвесил полупоклон старцу-швейцару. Тот удивлённо насупил пуки седых бровей и также поклонился. Затем ещё более ошалело протянул руку для предложенного Крыжовым рукопожатия.
— Новая жизнь, отец, начинается! – сказал тот с глазами заговорщика. – Ни господ, ни хозяев. Только товарищи. Одним словом, сплошное равноправие. Так что двери передо мной открывать и закрывать больше не надо.
— Поглядим, какое оно время, — произнёс старый солдат. – Ноне одно, а завтра другое. Молодой ишо, барин. Жизни не знаете. А судить берётесь о ней.
— Ничего-то вы не смыслите в новой жизни, отец! Да, что уж там. Мне и самому не верится временами. Но зато, как подумаю, так дух захватывает! Всё у нас получится, отец. Счастье для всех! Ради этого стоит жить и даже умереть.
— Рановато о смерти помышляешь, соколик. Ну, да ладно. Христос с вами, ребята.
Плюхнувшись с разбегу в замшевое сидение «рено», Крыжов понёсся по Замоскворецкому району. Без кожаного, как у тарантаса, верха поддувало. Но испортился какой-то зажим на пружине откидывающегося верха. Пришлось довольствоваться тем, что натянуть кожаные фуражки по самые уши, поднять отвороты тужурок. Шофёр замотал лицо шерстяным шарфом. Оно кроме всего было покрыто дымчатыми автомобильными очками, что придавало ему фантастический почти марсианский вид. Уллы-уллы…
— Читали Уэллса, товарищ? – перекрикивая треск трёхцилиндрового двигателя, заорал Крыжов. – «Война миров», я вам скажу, мировая вещица! Советую…
— Просто Кузьмой меня зови! — заорал в свою очередь тот, нажимая на резиновую грушу клаксона: на мостовую высыпала из-за ветхого заборчика рабочая детвора. – О чём там? Вкратце наговори.
— Пришельцы с Марса атакуют Землю, — начал Крыжов. – На металлических цилиндрах врезаются в неё, а затем с помощью теплового луча и ядовитых газов… Во общем, пытаются стереть нас как пыль! Правда, ни черта у них не выходит. Но я дальше рассказывать не буду. Не интересно…
— Как знаешь, дорогой! Тебя ведь Павлом кличут?
— Агась! Как апостола, что шёл в Дамаск и которому Христос явился.
— Хе-хе! Апостол выискался. Хотя, резон есть. И тот, Христос, был за бедных, и мы. Линию держать надо. Линию… Тудыт их! Я ж задавлю и тебя, и дитя, дура стоеросовая! – внезапно заорал он на какую-то молодку, что несла посреди улицы укутанное в шали тельце. – Дура и есть. Оглашенная… А книжку прочту. Знатная она, как ты рассказал. Дюже войну напоминает.
* * *
…Севастопольский рейд был слабо освещен и, поэтому казался мертвым. Кругом накрапывал легкий дождик, да волны прибоя мерно плескались о склизкий бетон. В темноте гулко отдавались шаги французских часовых. Чавкая подкованными ботинками, они прогуливались по пирсу взад и вперед подле мертвенно-серых броненосцев и дредноутов под трехцветным вымпелом. Жирную, как вакса, темноту оглашали «ревуны». Вахтенные матросы на французских военных кораблях перекликались, таким образом, между собой. Оглашали, что происшествий, слава Святой Деве, никаких. Точно говорили между собой сами стальные громады, ощетиненные пушками, из серого, клепано бугристого металла. Город, что раскинулся вдоль высокого скалистого берега, лепившийся на возвышенностях и в низине десятками одноэтажных мазаных хибар, сиял многочисленными золотисто-красными огнями. Шумные кабачки, гостиницы и бордели, опиумные и карточные притоны были заполнены до отказа. Французские пуалю в небесно-голубых мундирах, солдаты-легионеры в лимонно-желтых кепи, зуавы в расшитых синих куртках и красных фесках, тьма-тьмущая белых офицеров из Корниловских, Кутеповских, Марковских и Дроздовских полков. В черных и грязно-серых, изорванных о колючую проволоку, пробитых пулями и штыками, посеченных осколками и саблями шинелях, бекешах и полушубках. Со страшными угловатыми шевронами из красных, синих и белых полос, сшитых воедино. Точно несли они на рукавах частицу знамени Великой Французской Республики, хотя эти же яркие цвета символизировали саму Россию. С адамовой головой, где были «пиратские», скрещенные кости… Пропахшие спиртовым угаром, запаршивевшие от грязи и пота, но сохранившие при этом внешний лоск и приятные манеры, они умудрялись играть и проигрывали целые состояния. Нередко оплачивали долги рублями еще николаевской чеканки или обмененными на них (по текущему курсу на «черной» бирже) ядовито-бледными, точно болотная водица долларами, запечатлевшими первого американского президента в белоснежном парике с буклями. Кромешной ночью на пирс вышел молоденький поручик-корниловец в черной гимнастерке с оранжевыми георгиевскими ленточками и белыми крестами на всю грудь. Осмотрелся по сторонам, послушал шум прибоя и крики сварливых чаек. Молвил: «Пропала Россия, господа! Трагикомедия под названием « белое движение» подошла к концу. Впереди одна тьма, туман и пролив Босфор, который примет наши мертвые души. Бесы-большевики и их черный гений, антихрист Ленин, одолели нас. И поделом… Пусть все и вся летит к чертям. В преисподнюю. Оревуар, господа. Занавес…» Безусый юнец с золотыми звездочками на черно-белых погонах поцеловал раскрытый медальон на серебряной цепочке. Истово перекрестившись на серебряную луну, достал из внутреннего кармана тупорылый браунинг и выстрелил себе в сердце. Обмякшее тело, взмахнув руками окрест, точно крыльями, полами черной Корниловской шинели, упало в веер соленых брызг. Навстречу холодной зеленой волне, которая приняла его в свои объятия…
Вот прекрасная смерть, вспомнилось Седану чьи-то слова. Все силился вспомнить и, наконец, вспомнил: они из романа русского писателя Льва Толстого «Война и мир». Запахнувшись в офицерский плащ с прелиной, он поднялся по Портовой улице. В спину дул промозглый морской ветер. По мощеной булыжником мостовой, которая наверняка помнила удары английских и французских ядер времен севастопольской осады, летели обрывки старых газет. Тарахтя, кувыркалась в потоках воздуха консервная банка. Прыгал по каменной, бугристой поверхности старый башмак с выпирающими на носке гвоздями. Новокрещенный переулок и Корниловская набережная (в честь адмирала Корнилова) были забиты врангелевскими войсками. Теснились снятые с передков пушки, обозные фуры и санитарные повозки. Между поставленными в козлы винтовками кто-то спал, завернувшись в шинели. У коновязи, где шумно жевали сено казачьи лошади, столпились и сами наездники. Угрюмые, бородатые казаки (потомки тех las kasaks, что вступили в Париж в 1813 году) в лихо заломленных папахах с алым верхом, в подбитых верблюжьей шерстью башлыках. По обрывкам чужих, топористых слов и смачной русской брани Седан понял, что красные, опрокинув последние заслоны добровольцев на Кубани, вышли к Черному морю.
…В штабе французского гарнизона Севастополя стало известно о каком-то таинственном приказе, полученном по телеграфу из Парижа. В нем говорилось, что «…недопустимо потворствовать преждевременному вводу войск белого движения Юга России в город и их эвакуации, так как верным следствием этого губительного свершения будет рост эпидемий и дезорганизации». Для того, чтобы не допустить белых в порт, адмирал Дюрок приказал открыть заградительный огонь главным калибрам на флагманском броненосце. Один из знакомых Седана, офицер 2-ого Бюро (военная разведка), проговорился, что стрельбу корректировали с берега какие-то странные русские. Они постоянно давали «неточные» ориентиры. Снаряды флагмана то и дело попадали не в цель – в самую гущу белых полков. «…Дело в том, что эти корректировщики были из местных пролетариев, — объяснил Мише, принимая очередную рюмку коньяка; сигарный дым ел ему глаза, которые постепенно наливались кровью. – Эти русские давно уже сотрудничают с нашим отделом. Поэтому мы их не особенно притесняем. Большевики-большевиками, а война-войной… Пусть белая Вандея воюет с красными якобинцами хоть до второго пришествия! Мы не должны препятствовать этому. Русские истребят в это бойне своих смутьянов и бунтарей до седьмого колена. Это же здорово, черт возьми! Франции такая селекция даже и не снилось…»
Это же бесчестно, тогда же подумал Седан. Стрелять по своим союзникам, с которыми мы мужественно сражались против бошей. В сырых, а то и залитых водой окопах. Под Марной, Верденом и Соммой. Разве полковнику Курочкину пришла бы в голову мысль открыть огонь из пулеметов и пушек по отступавшим французским частям? Хотя бы в том страшном бою. За предместье Сент Антуан, когда от полка осталось едва половина солдат и офицеров. Седан, по велению саднящего от боли сердца, возглавил эту губительную, бессмысленную атаку. Он видел кровавые ошметья, вылетавшие из тел его солдат, которых прошивали навылет пули и осколки бошей. Огненно-черная полоса разрывов поднималась то впереди, то позади наступающих. Мучительным был каждый шаг французской цепи. Седан вспоминал перекошенные от ужаса лица германцев под серыми, глубокими шлемами. Их тянущиеся к небу руки с дрожащими, посиневшими пальцами. «Kamrad! Nixt chosen!» — орали они, надеясь на пощаду. Все было тщетно…
«…Мосье! – крикнул он в лицо, точно бросил перчатку, генералу Огюсте. – Мне доложили, как вы справлялись о продвижении полка на позиции бошей. Когда они прижали нас к земле перед первой линей траншей, мой телефонист слышал, как вы поручили своему адъютанту связаться со штабом артиллерийского дивизиона. При этом – о, бесчестный человек! – вы сказали: «Подвергнуть обстрелу ориентир «В-2». Это же первая линия проволочных заграждений у бошей! Я бы с удовольствием застрелил вас перед штабом… нет, перед строем своего полка, предварительно сорвав галуны и выщипав вашу дерьмовую (merde!) бороденку. Но во мне еще осталась честь, и я не сделаю этого. Пусть вас покарает Всевышний Бог, наш Вечный Судья. Ведь его именем вы не раз прикрывали свою грязную душонку, когда посылали тысячи людей на смерть. Их кровь на этих руках, » — сказал он напоследок, вытянув перед побелевшим от страха генералом свои грязные, исцарапанные пальцы со сбитыми в кровь ногтями.
У разбитой снарядами часовни с каменным распятием, у которого осколком была отбита верхушка головы с терновым венцом, стояли офицеры штаба в щегольских прелинах и начищенных штиблетах. Никто из них не проронил ни слова. Всем было ясно, что без последствий этот выпад не останется. Судьба и карьера полковника Седана предрешена. Не сегодня завтра он предстанет перед военно-полевым трибуналом. Ему было все равно, чем закончится этот трагедийный фарс. Седан добрался на санитарном грузовике до позиций русского полка. Полковник Курочкин выглядел потерянным. Предложив рюмочку «Бордо» выдержки 1830 года (из трофеев, отбитых у бошей), он признался: генерал Огюсте связался с ним по телефонному аппарату. Предложил написать рапорт на имя председателя военно-полевого трибунала: дескать, полк Седана плохо шел в атаку. Смешав ряды, бросая оружие, пытался бежать с поля боя. Было это по времени как раз за пятнадцать минут до того, как Огюсте поручил своему прыщавому адъютанту Этьену связаться со штабом артиллерийского дивизиона…
«…Нет, мой друг, как вы понимаете, я ответил категорическим отказом, вымолвил со скорбью полковник Курочкин; его подстриженная, седеющая бородка мерцала в тусклых лучах керосиновой лампы «летучая мышь», что раскинулась жестяной тарелкой на бревенчатом потолке блиндажа. – Я скорее напишу председателю военно-полевого трибунала о том, что этот мерзавец велел мне состряпать гнусный донос на вас, Седан. Нет, какая сволочь… Сотни людей были убиты под ураганным огнем бошей, четыре линии траншей были взяты. Я был свидетелем, находясь на НП, что вы проявили величайшую доблесть – возглавили эту самоубийственную атаку. Нет, какой мерзавец… Поверьте мне, Седан, я всегда был всем сердцем с Францией. Никогда не приходило в голову, что вы «лягушатники» или пьете прокисшее вино. Вы пытались покорить Россию в 1812 году. Ну и что? Не злорадствовать же мне по этому поводу! А уж отыграться за поражение в Крымской компании…»
«Вы правы, Курочкин, — печально улыбнувшись, молвил Седан; он обмыл лицо водой из блестящего оцинкованованого ведра и выглядел бодрым и посвежевшим. – Порядочность или подлость никогда не принадлежали одному классу, одной религии и тем более одной стране. Как много я за свою жизнь слышал неприятного о представителях других народов: о турках, алжирцах, сенегелах, марокканцах. Когда я гонялся по знойной пустыне за мятежным шейхом, я всей душой возненавидел этого жестокого человека. Его войны-кочевники причиняли нам страшный урон: за месяц я потерял до сорока процентов своих солдат в кровавых стычках. Мятежники отравляли колодцы, и мы вынуждены были освежать полость рта… Нет, не поверите! Верблюжьей мочой! Но я оказался не прав в отношении ко всем бедуинам. Один из них подобрал раненого французского драгуна. Тайком лечил его. Хоронясь от своих соплеменников. Мои солдаты расстреляли из пулемета всю его семью в отместку за жестокость главаря-шейха! Помню другой случай. Когда шла битва на Марне, мы взяли в плен бравого боша-вахмистра. Разъезд германских улан попал в засаду нашего полевого пикета. Трое захватчиков были убиты, а двое сдались на милость победителям. Унтер-офицер (между прочим, легко раненый) не хотел нам отдавать свой палаш и маузер. Пришлось одному из моих солдат ударить его по спине прикладом. «Я не могу вручить свое оружие врагам – мне его вложил в ножны сам кайзер!» — были его слова. Этот бош плакал как ребенок, когда мы вынимали его палаш из ножен, а я сделал несколько выпадов его клинком. Зато тот вахмистр! Представьте себе, мой друг: он сам протянул нам свое оружие, отстегнув ремень портупеи у себя на груди. «Мне стыдно, что воля кайзера столкнула народы в этой кровавой бойне, — молвил он, потупись. В его глазах я заметил слезы. – Вы еще отомстите нам через наших детей…»
«Разве можно мстить врагам, калеча судьбы их детей? – удивился Курочкин; его тонкие, бледные пальцы обнимали хрустальную полусферу, в которой плескалось багрово-красное вино. – Это было бы чудовищным злодейством, мой друг. Германцы, которых вы называете бошами, не столь кровожадны, как нам кажется. Много премного мифов создало человечество о самом себе. Народы, живущие в нашем мире, смотрят друг на друга, словно через кривое зеркало благодаря этим историям. Друг-друга не узнают, мой друг! У меня складывается впечатление, что сам Диавол создал это зеркало зла. Использует его для нашего устрашения. Мы являемся друг другу в прессе и синематографе безжалостными захватчиками с хищными когтями. Разве это наш истинный облик, мой друг? Разве таковыми нас создал Всевышний Творец, сотворивший небо и землю, исполненные чудесной красотой и многообразием жизни? Разве таков Он сам, наш Великий Создатель? Ведь порождая потомство, ни зверь, ни человек, находясь в полном здравии, не желает гибели своей кровинушке …»
«Ну, Курочкин, куда вас занесло… — усмехнулся Седан, поднимая свой бокал на уровень лица; небритого, плохо отмытого от грязи и крови после страшного боя. – Сэр Чарльз Дарвин, согласно своим научным изысканиям, пришел к выводу, что мы являемся прямыми потомками обезьян. Равно как и все человечество. Как раз перед самой страшной войной. Иногда я думаю, что он прав, этот ученый муж. В человеке слишком много животного. Та же жестокость, выраженная в стремлении бороться за свое жизненное пространство. За кров, пищу и самку. Последнее ему нужно для порождения себе подобного зверя, что будет после кончины родителя оборонять территорию… — Седан почесал свой подбородок и многозначительно, сквозь сверкающие грани взглянул на лицо друга. – Если Бог сотворил такого человека-зверя… Простите, не Он ли поместил в его душу эту неуемную жажду уничтожать себе подобную тварь? Если это так, то я умываю руки, мой друг. Так, помнится, сказал Пилат, когда толпа иудеев взывала к нему, желая одного в своем жестокосердии: предать страшной казни Сына Единородного. Мне нелегко говорить об этом вслух, но еще труднее об этом молчать…»
— Ну что, кавалер? Пойдем гулять? Или боишься?.. – это произнесло юное создание в кокетливой шляпке с петушиными перьями. На плечах у ночной красавицы-кокотки было меховое манто из черно-бурой лисицы. Когда была отброшена тонкая, перистая вуаль, взору Седана представилось удлиненное, но изящное лицо с прозрачно-зелеными, не лишенными глубины, пронзительными глазами. – Франки, фунты, доллары!?! Я все беру, красавчик. Француз ты мой, ненаглядный. Бон Жур, мосье! Или как?..
Седан на мгновение задумался. Переулок был относительно безлюдным. Из окон низких, темных домов брезжил слабый, желтоватый свет. Горели преимущественно лучины. Или керосиновые лампы у тех, кто был побогаче. Там от взоров посторонних укрылась чужая, малознакомая и малопонятная Седану жизнь. Боясь грабежей, погромов, арестов и казней… Седан видел на днях, как двое рослых людей (один в светло-серой офицерской шинели, а другой в бекеше и папахе) тащили за пейсы старого еврея в длинном, черном пальто. Он причитал на языке своих предков. Если бы не вмешательство Седана (пришлось выстрелить в воздух), они бы убили его. Седан ехал в автомобиле белого военного коменданта. Он был очень удивлен, когда поручик, сопровождавший его, с некоторым колебанием достал бельгийский револьвер «наган» и присоединился к нему. «Евреев винят в большевистском перевороте, — сказал он, когда все осталось позади. – Если бы кто-нибудь из господ офицеров видел меня… Одним словом, меня бы назвали красным шпионом. Мне бы пришлось стреляться с обидчиком. Вы должны понимать, полковник: в России – смутное время…»
— …Так ты меня боишься, мосье? – не унималась юная проститутка, испытывающее смерив его влажными от слез глазами. Седан немного опешил, заметив, что она плачет, но виду не подал. Мало ли что скрывали эти слезы… На всякий случай он поправил, скрытую прелиной, кобуру пистолета. – Пойдем со мной, касатик. Я немного французский знаю, moon sheer. Меня в нумерах благородному обращению учили. В Париже, небось, девочки получше имеются? Ну, не будьте букой, мосье. Помогите бедной, невинной девушке заработать на хлеб, — хихикнула она сквозь слезы.
Ну, не тебе оплакивать свою невинность, подумалось Седану. Он на мгновение вспомнил Сезанну. Его первая любовь в Париже… Горничная, которой он обещал подарить весь мир. Высокая, голубоглазая девушка с бархатной родинкой на нежном, округлом подбородке, с пышной россыпью каштановых волос. Та самая Сезанна, которой Седан предложил обручиться после выпуска из парижской военной школы. И отправиться вместе с ним, новоиспеченным лейтенантом, в песчаный, знойный Алжир. Под пули и кривые сабли восставших кочевников, которые сеяли смерть среди французских оккупационных войск. Воспитанный своими родителями в духе высоких чувств, воспетых Флобером, Бальзаком и Гюго, он не ожидал подлой измены. И вот сейчас эта подлая девка пытается соблазнить его. Пойти с ней – совершить измену еще худшую. Седан помнил, как хотел убить Сезанну после того, что она сделала с ним. Но его боевой пыл немного поостыл. Вернувшись домой, он не обнаружил вещей своей любимой. Выяснилось, что этим днем Сезанна взяла расчет. Не поставив его в известность. Тогда он горько пожалел, что не отхлестал ее по лицу там же, под полосатым тентом. Дуэль с соперником ничуть не пугала его. Предстоящая перед ним юная проститутка вернула его в прошлое. Дайте мне подобающий рычаг, и я сдвину весь мир, изрек Архимед. Рычагом, сдвинувшим мир Седана, оказалась измена его любимой…
Седан, расстегнув клапан револьверной кобуры, решительно шагнул за «ночной феей» порока и греха. Узкий проход, освещаемый тускло смердящими керосинками, напоминал своды каменистого грота или лаз. На дощатых, с запахом клопов и плесени стенах были натянуты потрепанные шелковые гобелены. Она привела его в свою комнатушку. Стала не спеша, смакуя каждое мгновение раздеваться. Он молча смотрел на нее. Затем отвернулся, чтобы не осквернить свою память. В следующий момент его грубо схватили. Шею французского полковника сдавила чья-то потная, сальная пятерня. Почти не испугавшись, он врезал стоящему позади «датским дуплетом»: отклонив корпус, нанес удар локтем в солнечное сплетение, а ребром ладони в перчатке (опустившись ниже) попал в промежность. Бандюга глухо взвизгнул. Пятерня на мгновение разжалась. Тогда Анри, ослабив шнур плащ-накидки, сковывающей движения, свалил верзилу в жилетке точными боксерскими ударами. Тот завалился на гнилой дощатый пол. При падении то ли смачно хрюкнуло, то ли отрыгнуло… Проститутка, полуобнаженная и прекрасная, истерично завизжала. «Merde! Hershel la mi, mo due!» — Седан пригрозил ей бельгийским браунингом. Он тут же вспомнил последнюю беседу с капитаном Мишо из «двойки». Тот пообещал ему, что «будет присматривать». Стало быть, если выстрелить в дощатый потолок или издать трель офицерским свистком, сбегутся его агенты. Прибудет военная жандармерия – знаменитые «белые канты». (К концу 1916 года, по приказу президента Французской республики Клемансо, жандармы и колониальщики расстреливали каждого десятого в тех частях, что отказывались идти в бой.) В следующий момент он ощутил приставленный к виску холодный металлический предмет. Это был безо всякого сомнения – ствол…
— Не надо дергаться, мосье, — произнес ровный молодой голос по-французски. – Можно не ронять пистолет. Просто опустите его вниз. Правильно, вот так, — поощрил его стоящий позади. – Теперь сделайте несколько шагов вперед. Упритесь в стену. Вот так… Стойте и ждите моей команды.
Седан все сделал как было ему предписано. За спиной кто-то шикнул. Раздался звук комкающегося шелкового и крахмаленого белья. Сматывающая свои манатки юная камелия явно спешила. Верно, передразнил в уме своего пленителя Седан: кому же охота наблюдать, как разделывают под черепаху несостоявшегося клиента? От которого ничего не перепало. Как жаль, mo due. Совсем ничего… Хотя, если это одна шайка-лейка, то девочку не забудут. Стоп, мосье! Если на меня напали, то меня ожидали. Кто будет ссориться с французскими оккупационными властями? Здесь, в этой русской дыре, где все приготовились бежать через Босфор в страну янычаров и беев. Внезапная вспышка ослепила ему мозг. Колодкой тяжелого пистолета ему залепили в темечко, и он рухнул как подкошенный.
…Интуиция его не обманула. Блуждая по ослепительным спиралям в темном коридоре сознания, он вышел на более приземленные миры воспоминаний. Он лежал в неестественно-прямом положении на железной койке, с привязанными руками. Гудела как стальной котел голова. Будто по «стальному котлу» битый час лупили металлическим прутом. Над ним стояли трое. Желтоватый свет лампы-коптилки мутно освещал их лица. «Ничего, он уже очнулся, — от уха Седана, прямо в опухший мозг, устремился чей-то молодой, незнакомый ему голос по-французски. – Это пойдет ему на пользу, друзья. Не зря же мои люди вели полковника от пирса. Вы не находите, товарищ Быстрый?» «Лучше скажите: он будет сотрудничать, Мишель? – задал встречный вопрос тот, кто, судя по произношению, был русский. – Если он заартачится, придется…» «Ничего вам не придется, мосье большевик, — перебил его француз. – Уверяю вас, этот субъект после 16-ого стал весьма покладистым. Недаром я и мое руководство изучили его досье. Знаем шашни мосье Седана la amor. Это единственное, что способно его оживить. Недаром он повелся на нашу шлюшку. Объект будет сотрудничать…»
-…У вас нет выбора, мосье Седан, — внезапно раздался голос по-французски, который оглушил его. Седан инстинктивно вскочил и сел. Его руки были освобождены от пут. Он находился в каменистом гроте или штольне: сверху и с боков его обступал темно-коричневый, с блестками влаги камень. – Пришли в себя? Хорошо. Так вот, у вас нет выбора, полковник. Давайте сразу обрисуем нашу диспозицию. Уясните себе свое положение с самого начала…
Говорящий был молод. Он сидел за грубо сколоченным столом на пустом деревянном ящике из-под патронных жестянок. На говорящем была защитного цвета военная рубаха с металлическими пуговицами. На плечи была наброшена шинель солдатского сукна с мятыми, защитного же цвета русскими погонами с тремя звездочками и белой «М» (Марковская добровольческая дивизия), а также с трехцветным «ударным» шевроном на рукаве. Говорящий был хорош собой. Его румяное, круглое лицо и быстрые карие глаза излучали уверенность в себе.
— Это что за маскарад, поручик? – Седан потер себе виски, будучи уверенным, что инцидент будет исчерпан: вопрос лишь во времени. – Кто вам дал право задерживать представителя французских оккупационных властей? Вам жмут погоны, мосье? Или…
— Или… — усмехнулся «поручик»; что бы сбить его с толку, он посмотрел на открытый циферблат карманных часов, что заранее положил перед собой. – Стало быть вам не ясно у кого вы в гостях? Жаль. По моим наблюдениям вы – весьма практический, образованный, а главное неглупый человек. Че-ло-вечище, — протянул он с улыбкой. – Это из русской классики…
— Не помню такого в русской классике, — в меру сострил Седан. Он постепенно приходил в себя и начинал осознавать происходящее. – Я в белой контрразведке?
— Хотя бы так, — уклончиво ответил «поручик». – Чаю не желаете? Сигарету…
— Хотя бы? – усмехнулся Седан. Он попытался встать, но ноги его не слушались. – Мне нужны точные ответы.
— Я готов вам их дать, — с готовностью отреагировал собеседник. – В обмен на одно условие: вы будете благоразумны и будете спокойны, когда с вами будут говорить. А говорить с вами будут много. Вот, хотя бы…
* * *
…Перед лицом его стояла одна и та же картина: расстрел Д Алькана. После того, как был взят «Муравейник». Пехотный взвод. Целиком из новобранцев. Их лица были скрыты козырьками надвинутых шлемов с эмблемой рвущейся гранаты. В руках тряслись винтовки с приткнутыми длинными штыками. Вот-вот должна была прозвучать команда…
«… решением военного трибунала Лионской бригады от 31 октября 1916 года имени Французской Республики подвергнуть смертной казни лейтенанта Д Алькана за неподчинение приказам командования…»
Высокий, холеный офицер трибунала с трехцветной перевязью захлопнул папку. Отступил на шаг. Командир расстрельного взвода взмахнул палашом. Три команды: «Готовься… Целься… Огонь…» Залп из десяти винтовок разорвал промозглый осенний воздух. С черного дерева возле разбитой снарядами часовни (там, где Седан чуть не бросился на генерала Огюстена) взлетела стая ворон. Привязанное к столбу тело Д Алькана дернулось. Из раскрытой груди вылетели кровавые клочья. В какое-то мгновение она окрасилась вишнево-красным. Стала мокрой от крови. Кровь, подумал Седан. Он стоял, закрыв глаза. Как много льется крови в этом веке. Век взбесившейся обезьяны. Шимпанзе, напялили военную амуницию, взяли винтовки и пулеметы, присовокупив к ним более совершенные орудия смерти (бронеавтомобили, дредноуты, танки, аэропланы и смерть-газы). Хочется взять в руки необструганную дубину и загнать этих макак обратно в пещеры. Впрочем, нет… Макаки, кажется, не живут в пещерах. Они живут на пальмах. Я отстал от жизни. Безнадежно отстал…
«…Мосье полковник, прошу вас – тише… — раздался испуганный, проникающий шепот. – Вы рассуждаете вслух…»
Смерив говорящего взглядом (это был майор Дарни), Седан, пошатываясь, словно был пьян, пошёл вдоль высокой каменной ограды. За ней покоилось сельское кладбище. На нём было похоронено восемь поколений французов, живших в этом местечке со дня его основания. Итак, кости, начиная с XVIII века, покоились в этой сырой, чуть влажной земле. Что бы не происходило в Матушке- Европе, а смиренное кладбище вновь и вновь принимало в свои пушистые недра безжизненные тела. Футляры для душ… Высоко в небе, промозглом и сером, парили два аэроплана. Французский «Фарман» и германский корректировщик «Таубе». Последний имел чуть загнутые на концах крылья, что в сочетании с черно-белыми мальтийскими крестами придавало машине зловещий вид. Вскоре два самолета сцепились в небесной схватке. Они кружили вокруг воображаемой оси, поливая друг друга смертоносным дождём из пулемётов. На площади, где произошла казнь (могилу с расстрелянным спешно забрасывали землёй) собралась толпа зевак. Вскоре бой закончился: оба аэроплана, оставляя за собой дымные хвосты устремились к земле. «Фарман» летел следом, продолжая строчить из спаренного «Виккерса» по бошу. Дерьмовое геройство…
Ему вспомнился также штурм железобетонного дота «Муравейник». Когда первая линия атакующих, понеся огромные потери, прошла все четыре линии проволочных заграждений. В них, правда, зияли бреши, проделанные снарядами полковой артиллерии. Однако фугасы в промежуточных полосах остались неповреждёнными. Их пришлось разминировать под ураганным огнём бошей. Разрывные «дум-дум» хлопали по земле, раскалывали в щепы уцелевшие колья с натянутой колючкой, со звоном рвали саму проволоку. Поминутно раздавался короткий вскрик или протяжный вой: запрещённая ещё Гаагской конвенцией пуля находила человека. В бок полковнику толкнули чем-то жёстким. Это был неизвестно откуда взявшийся капрал-телефонист Копье. Осклабившись, он тянул в лицо Седану трубку «Эриксона». «…Полковник! Надо вызвать заградительный огонь! Без этого мы погибли…» В подтверждение его слов в боевых порядках залёгших пуалю стали рваться грушевидные бомбы, испускаемые бомбомётами. Они летели по дуге. Взрываясь на поверхности, осколками выкашивали целые отделения. Впереди, за изрытыми воронками линиями траншей с торчащими веером брёвнами брустверов и раскиданными мешками с песком, виднелась четырёхугольная бетонная глыба дота.
«…Эй, дружище Этьен! Свяжитесь со штабом артиллерийского дивизиона – пусть накроют огневым валом «В-2», — донеслось в трубке. Это говорил сквозь треск генерал Огюсте. – …Крепитесь, мой мальчик! – как ни в чём не бывало обратился он во весь голос к Седану. – Сейчас будет немножко жарко. Мы сломаем хребты этим залёгшим гуннам. Мы свернём этом кайзеру голову. Он будет жевать французскую землю отныне и во веки веком. Аминь!» Через минуту, когда связь с писком отключилась (впоследствии расследование, учинённое Седаном и Дарни, показало, что кабель остался нетронутым), ориентир «В-2», коим была четвёртая линия проволочных заграждений бошей или их передний край, потонула в дыму и пламени.
…К вечеру они вышли из глубокой штольни, составляющую сеть Аджимушкайских катакомб. Дунуло прохладой. Внизу плескались свинцово-серые волны Чёрного моря.
— Ну, мосье Седан, вас можно поздравить со вторым рождением? – усмехнулся тот, что был в форме поручика Марковской добровольческой дивизии.
— Пожалуй, — неопределённо ответил ему Седан. – Если вас интересуют более подробно все мои ощущения… Что ж, я готов говорить на эту тему.
Они спустились по каменной кручи, поросшей колючим кустарником, к берегу. Скрытая за камнями утёса, внизу на волнах покачивалась рыбачья шлюпка. В ней сушили вёсла двое: старик и почти ребёнок. Эдакий русский Гаврош лет 14-15. Если старик в старой бескозырке с выцветшим золотом и овчинном драном полушубке олицетворял нечто исконное, то мальчик был прямая тому противоположность. На его русой вихрастой головке была серо-голубая австрийская кепи с оловянной кокардой. Он был одет в относительно новый салато-зелёный френч с плеча греческого пехотинца. Дети и старики совершают кровавые революции, истребляют друг-друга в кровавых гражданских войнах, подумал Седан. Это та селекция, которая не снилась Франции? Об этом говорил Мишо. Он предал меня в руки «красным бандитам». Получается, что капитан 2-го Бюро имеет к ним прямое отношение. Но моя душа вовсе не скорбит о потерянной жизни. Значит не всё потеряно. Значит я вернусь…
Впрочем, у него не было выбора. Трезво прикинув своё положение, Седан понял: мосты сожжены. Сжёг их он сам. Когда передал красным данные о позициях на Юшуньском плацдарме, а также на Перекопе.
Часть вторая. Крест судьбы.
История отца Зосимы была хорошо известна монахам (особливо, старожилам) Сергиево-Троицкой лавры, что своими белокаменными стенами и мощными крепостными башнями являет собой твердыню святости в России. Будучи отроком двадцати двух лет, ни минуты не колеблясь, ушел от мирской жизни. Оставил отчий да материн дом, нехитрое деревенское хозяйство и юную девушку, что была наречена ему в невесты. Мало, кто знал, какое из чудес Господних подвигло его на этот отважный шаг. Того простым смертным знать было неведомо. Только лишь святой старец, игумен Никодим, которому перевалило за седьмой десяток, знал более других. Но тайны души младого отрока держал в себе. Крепко-накрепко запечатал в сердце своем, что было твердо, как камень. Келейный старца, черноризец Андрей, услыхал ночью исповедь молодого послушника, что причитал по поводу всех мыслимых и немыслимых искушений. И слова отца Никодим, что были ответом на юные страдания и их утешением: « …Ты, дитятко, не плач! Диавол знает, что со слезами в душу войти можно. К Ангелу-Хранителю своему воззови, Небесному Наставнику. Все твой Ангел-Хранитель ведает: и то, что было, и то, что будет. Попроси совета у него, заступника твоего небесного. То поведает он, что не могу произнести я, окаянный грешник…»
— Да разве вы, отец Никодим, грешник? – потрясенно молвил молодой послушник, продолжая всхлипывать. – Ведь о вашей святости все братья говорят. Как вы заповеди Господни храните в себе, отче, так бы всем их хранить. Ведь грех и блуд даже в наших святых стенах укоренился…
— Ты про то мне, дитятко, не говори, — молвил святой наставник. – То, что во вражеское время живем, то ведомо мне. Не для того принял я святое пострижение. Чтобы глаза свои на мерзость и запустение закрыть, что приходят на нашу землю святую. На Русь-Матушку…
Узнав, что келейный Андрей про ту исповедь прочим братьям-монахам поведал, старец крепко осерчал. Прогнал его прочь с глаз своих. Наложил суровую епитимью, которую тот так и не исполнил. (Надлежало за это отправиться в дальний монастырь и трудиться там, на черных работах.) С тех пор келейным у него стал послушник Зосима.
Через год, по настоянию святого старца, юноша был наречен новым, духовным именем – брат Зосима…
Случилось у святого старца странное видение накануне вступления этого мира в век грядущий. Вышел он, сопровожденный келейным, за монастырскую стену. К одному из святых источников, который Святой Земли Русской Сергий Радонежский вызвал из недр землицы-матушки своим посохом. Узрел святой отче Никодим своим духовным оком невиданное и страшное: на деревьях, что произрастали у студеной водицы, сидели маленькие темные существа в остроконечных колпаках. Беспечно говорили между собой на неслыханном языке. Услыхав, как воззвал святой старец к Господу, осенив их крестным знамением, заверещали в исступлении. «Придет царствие антихриста, придет на эту землю! – вопили они, беснуясь. – Ничто ее не спасет от погибели. Воцарится на ней наш хозяин на тысячу лет. И будут слепы люди, и пойдут в бездну, весело смеясь и с именами святых на устах. Не дано им будет предвидеть свою погибель. Тех же, кто останется с Господом, отправят в печи железные. Нам на забаву. Мрак у них в очах и забвение на устах. Время наше, диавольское…» Келейник Зосима, правда, ничего не видал и не слыхал. Только успел заметить мертвенную бледность на лице своего духовного наставника. Пронзительно-синие глаза старца покрылись непроницаемой завесой, за которой не всякому суждено было оказаться. Лишь спустя несколько лет, когда великую империю Российскую потрясли кровавое воскресение и русско-японская война, отец Никодим, вышел по утру к святому источнику. Залился слезами и молвил:
— Как были мы, так и есть, окаянные! Все на своих местах, охальники. И не ведают, что творят, но к погибели мир ведут. Остановить их надобно, дитятко. Ведь стар я и слаб, что б там не говорила братия. Да и братьев-то истинных мало. Истину ты произнес, Зосима, когда о блуде и грехе сказал в монастырских стенах. Об этом будет явлено тебе со временем. Печатью святой затвори свои уста и очи. Не приспело тебе сокровенное созерцать…
Надо сказать, что настоятель монастыря, человек желчный и грубый, крайне не возлюбил молодого келейного Зосиму. Сам он в тайне душе своей желал приблизиться к святому старцу. Но отец Никодим хладнокровно отвергал все попытки: ум настоятеля был далек от духовного промысла. Был тот упитан и благообразен, носил сиреневую шелковую рясу с громадным золотым крестом. Его пухлые, нетрудовые руки были унизаны массивными золотыми перстнями. Это делало его похожим на купца, а не духовное лицо. Кое-кто из монастырских пытался представить жалобу о его непотребствах в Священный Синод. Но куда там! У отца-настоятеля и там все было схвачено: «зачинщиков смуты» взяли под стражу и сослали в Соловецкий монастырь на вечное покаяние. Это послужило суровым уроком для всей братии. «Особливо строптивым никто не возжелал быте…»
С тех пор настоятель монастыря укрепился в своем положении. Больно хлестал по щекам провинившихся, ставил их на ночь в кельях на колотый кирпич или толченое стекло. За малейшую провинность отправлял на тяжкие работы. При нем доносительство и лесть почти вытеснили благой чин. Монашеские службы проходили безрадостно. Смирение и послушание превратились в беспросветную кабалу. В ней оказывались молодые монахи относительно тех, кто был постарше и в милости у настоятеля. Посты утратили свое значение. Видя, что настоятель не гнушается «скоромники», остальная братия махнула рукой на остатки благочестия. Питие и сквернословие стало обыденным явлением, словно по пророчеству…
Зосима постигал духовный подвиг святых сподвижников. Стал смирять свой дух и свою плоть суровым постом. Питался порой одной лишь студеной водицей из святого источника да размоченными в ней корками хлеба. Он был осмеян прочими братьями. Им было невдомек, что молодой монах и впрямь решился стать святым сподвижником. Многие из них жестоко шутили с ним. То кипятком его из шайки обольют в монастырской бане. То каменья тяжкие с того ни с сего падут на его плечи… Зосима стойко переносил выпавшие на его долю тяжкие испытания. В его памяти жили откровения, что были явлены ему от Бога…
…Отправился он, по настоянию святого старца, в дальний монастырь, что был на острове. Но пришел к нему затемно. Повстречался ему одинокий старичок на подводе, что согласился его подвести до монастырских ворот. Весь путь говорил с Зосимом, как тяжка жизнь монашеская. Какие искушения насылает Диавол на чернецов. Так и подъехали они к воротам, окованным железом, под святым образом. Расстелил Зосима серый армячок на травушке-муравушке, что серебрилась в свете молодой луны по всему острову. Сотворил молитву с крестным знамением, готовясь отойти ко сну. Окинув взглядом спокойные, темные воды озера, он заметил светящуюся белую дорожку, что протянулась к берегу. По ней на подводе его подвез тот старичок. Утром же, когда рассвело, открывшие ворота монахи были удивлены, что юноша оказался на их стороне. Белая, светящаяся дорожка исчезла. Будто и не было ее никогда. Никто о ней знать не мог, так как было явлено чудо от Господа Всевышнего. По сему, после кратковременного послушания в здешнем монастыре Зосима был отправлен в Сергиево-Троицкую лавру…
После смерти старца Зосима пережил страшное испытание. Прибыл новый монах из Суздальской обители с письмом от тамошнего настоятеля. Был тот монах кряжист и широк в плечах, с большими, заскорузлыми руками. Черная, как смоль, борода его скрывала грубое лицо, на котором угадывались многочисленные рябины от перенесенной оспы. В кустистых бровях были затеряны необычайно подвижные, зеленоватые глаза. Вместе с изогнутым, ястребиным носом они придавали лицу потаенное, зловещее выражение. Монашеское одеяние сидело на нем неуверенно и мешковато. Было заметно, что в душе у Тихона (так звали вновь прибывшего) было не все в ладах со Всевышним. Перед настоятелем он лебезил, а остальных братьев бил за малейшую оплошность. Был наделен силой нечеловеческой: сгибал подковы, завязывал узлом ложки. Мог запросто вбить гвоздь ударом пальца. Один раз схватил быка за рога. Одним движением пригнул здоровенное животное к земле… Однако трудиться на монашеском подворье, в огородах и конюшне, не любил. Заставлял трудиться других, подгоняя нерадивых и непокорных ударами пудового кулака. Сам же любил дремать на солнышке, накрыв лицо каламией. Заставлял читать молитвослов, либо петь гнусавыми (точно у бесов) голосами литургию.
Ему все одно было, Диаволу. Только бы покорность да угождение настоятелю.
Пробовал как-то Тихон подступиться к Зосиме, да тот не робкого десятка оказался. Да и силой не обидел Бог. Стиснув за черенок лопату, отрок, сузив глаза, тихо прошептал:
— Ступай отсель, окаянный! Не искушай души христианские…
Никто этого не видал. Поэтому Тихон, уверенный в своей власти, сказал, щетиня бороду пудовой, заскорузлой пятерней:
— Ладно, паря. Трудись покудова. Но знай, придет и твой час, соколик. Туда удод не налетывал, куда брат Тихон захаживал. Бывал я в дальних местах. Знавал я многих непокорных. Ребрышки-то у всех хрустят одинаково. Сердечки у людишек ноне боязливые, соколик. Только ты, видать, ничего не боишься на этом свете, паря?
— Не паря я тебе, — побелевшими губами ответил ему Зосима. – Человек я Божий, да и ты тоже. Почто так говоришь со мной да братьям зло чинишь?
— Про то так говорю, что все вы здесь охальники да грешники, — ответил ему Тихон сумрачно. – Бога не чтите да Богом прикрываетесь. Пора вам узнать, что есть Суд Божий и Страх Божий. В этом мире одна правда: кто страх в себе переломит, тот и есть самый бог…
Зосиму словно ледяной водой окатило от этих слов. Богохульство, произнесенное Тихоном без утайки, потрясло его неокрепшую душу. Старец Никодим поведал ему на смертном одре о странном и страшном видении подле святого источника. Ведомо было святому старцу, душа которого ушла к Всевышнему, о великих бедах и смутах, что обрушатся на мир в новом ХХ веке. Самое страшное это – грядущее царство антихриста. Придет он в обличии божьем на землю. Будет вводить в искушение целые народы, которые по-прежнему не ведают, что творят. «…И будут речи его, сына погибели, сладки, как мед, и благодушны, как фимиам, — прошептал молодому келейнику отец Никодим. – И будет он прельщать теми речами царей земных. Все поклонятся ему. Отцы-сподвижники, что служат Господу, склонятся пред его очами. Красотою своею подобен он будет утренней заре. Поведут на судилище и на казнь тех, кто откажется признать число зверя. …Остальные, побивают их камнями. Терзают, как лютые звери. Превратятся храмы Божьи в мерзость и запустение. В монастырях будут устроены жилища для нечестивых. Таково великое искушение от Диавола! Таков промысел Божий! Все окажутся в грехе и предстанут перед лицом погибели. Лишь тот спасется, кто имя Отца нашего Небесного сохранит в душе своей…» Отходя к Всевышнему, отец Никодим просил Зосиму устоять пред натиском той стихии, которая приготовилась обрушиться на этот мир. «Натиск ее будет велик, — говорил святой старец на последнем издыхании. – Но ты будешь сильнее, дитятко. Просить буду Всевышнего о тебе. Выслать тебе помогу из Царствия Небесного. Что б оберегли твою душу неокрепшую от всякой нечисти Ангелы Небесные. Мало нынче на Руси Святой тех, кто истинно Богу молится и истинно Богу служит. Один ты, дитятко, остался в нашей обители. Церковь-то наша давно уже незримо под пятой антихриста. И того не ведают, окаянные… Быть тебе, брат Зосима, великим сподвижником … последним старцем на Святой Руси-Матушке! В лихую годину Всевышний призвал тебя. Так исполни Его Волю до конца дней своих…»
И вот сейчас антихрист предстал перед Зосимом вполне зримо. В образе Тихона, которого с тех пор юноша не признавал за брата-монаха. Прозорливым умом своим отметил, что и молитв-то толком произнести не может, ибо старославянскому, церковному языку едва учен. Хотя, согласно письму от настоятеля Суздальского монастыря значилось, что пробыл Тихон на послушании четыре года. В самой же обители монахом состоял до пяти лет. Все больше усиливалось в Зосиме подозрение, что это человек темный и пришлый неведомо откуда. В монаха наряженный, да и только. Однако, кому об этом скажешь? Настоятель был груб и не разговорчив, пока речь не заходила о мирских утехах, в числе коих блуд да вино. Остальные же братья боялись пришлого. Потихоньку доносили ему о том, что творилось в обители. Вознося молитвы к Всевышнему, в коих он просил о крепости духовной, Зосима знал, что час страшных испытаний близок. Он не ошибся, встретив его, этот страшный час, во всеоружии духовном.
* * *
…Взмахнув лопатой, Зосима, пошел на Тихона. У того чуть глаза из орбит не выпали… «Уйди отсель, темная человечья душа! Не искушай ни меня, ни Бога нашего!» — воскликнул молодой монах. Тихон, было, взмахнул своим пудовым кулаком. Внезапно темное застлало все вокруг. По-прежнему ярко светил на небе золотисто-оранжевый, огромный шар по имени Солнце и тени легких, перистых облаков скользили по белым монастырским стенам. Зосима видел, что они оказались в разных мирах. Он, молодой монах, почти юноша. И этот огромный, жестокий человек, возымевший власть с чужого слова над монастырской братией.
— Уйди отсель, огромна окаянный! Не то враз кончу тебя на месте, — вырвалось у Зосимы.
Тихон жутко скривился и закричал:
— О, братья, убивают! Бесом одержим, бесом… Этот наш вьюнок беспутный! Хватайте и вяжите ему руки! Не то он, бес во плоти, всех нас лопатою перебьет! Я покамест за отцом настоятелем поспешу…
Монахи стояли вконец остолбеневшие. Ибо свершилось чудо из чудес. Тот, кого все боялись, сам изволил испугаться. Но это была только сказка. Вся присказка была впереди.
По распоряжению отца настоятеля, что немедля (со слов Тихона) прознал о случившемся, Зосиму заточили в монастырское подземелье. За исправником отрядили тот час одного из братьев. (Как выяснилось позже, того, кто окатил Зосиму шайкой кипятка.) Исправник приехал на дрожках с бубенцами. Тут же произвел подробнейший опрос всей монастырской братии.
— Для протокола, святые отцы, — молвил господин исправник, запинаясь от смущения. Розовые, гладкие щеки покрылись потом. Полоска золотистых, лихо закрученных усов терялась под тенью козырька белоснежной фуражки. – Его же, напавшего… То бишь, брата вашего, которого вы повязали, тоже надобно будет подвергнуть опросу. Пока дознавателем буду я, господин исправник, — сказал он, поворачиваясь к отцу настоятелю, и почтительно улыбнулся. – Вы, конечно, можете дать делу законный ход. Так и… Ну, я думаю, что вы понимаете, какие нежелательные последствия может иметь суд да следствие для вашей святой обители. Попади этот юноша на съезжую или в острог…
Ну, разумеется: отец настоятель все прекрасно понимал. Ему давно уже не терпелось убрать Зосиму с глаз долой и подальше. Молодой монах снискал своим терпением и мужеством любовь у остальной братии. Не раз за усердие в посту и молитвах Зосиму отправляли выполнять напрасно-черную работу. Таскать с места на место камни. Или перекладывать из лохани в другую мусор… Но он держался. С приходом в обитель зловещего Тихона, который ввел порядки точно в острожной тюрьме, его жизнь стала и вовсе невыносимой. Но теперь… Дурная слава о нем, отце настоятеле, могла зайти совсем далеко. Того не хотелось этому толстому, холеному человеку. С нежными, большими руками, никогда не ведавшим трудов. Что б хоть как-то досадить молодому монаху отец настоятель предложил составить протокол со слов «претерпевшего от злодея», то есть «смиренного» брата Тихона. «Дабы бумага сия могла возыметь ход…»
Тихон долго отпирался. Но, по настоянию, отца настоятеля, ответил на все вопросы господина дознавателя-исправника. Ответы его были скрупулезно записаны в протокол дознания. В довершении следовало поставить собственноручную подпись. «Претерпевший» снова помедлил. Дрогнувшей рукой вывел корявый крест. Пририсовал к нему толстую нижнюю перекладину, изогнутую подковой.
-Только и есть что у меня на свете, братия да господин хороший, что Господь наш да его Сын, — угодливо перекрестился Тихон, удаляясь с поклоном. – Принявший, известное дело, за нас муку лютейшую на кресте…
Тут произошло и вовсе непонятное. Исправник, как будто очнувшись ото сна (с минуту изучал протокол), схватил брата Тихона за шиворот. Двинул ногой в живот и повалил на землю.
— А ну, вязать его, такие-растакие! Я вас всех в холодную запру, бестолочь черноризая! – заорал господин исправник. При этом лицо его налилось красным, как помидор на монастырской грядке. – Беглого каторжника, душегубца-«крестника», пригрели! У себя, в святой обители! Я вас, тишайших да смиреннейших, в солдаты отдам…
Выяснилось, что «брат Тихон» вовсе был не брат. Тихоном он тоже, как оказалось, никогда не был. Был это известный душегубец, беглый с Уральского острога каторжник Федька Кривой, загубивший на своем веку множество христианских (в особенности, православных) душ. Убив солдата конвойной стражи, он убежал прямо с этапа. Отсидевши в кустах, вышел к железной дороге. Прыгнул на проходящий состав до первопрестольной. Ночью, выбравшись в город на одной из станций, задушил проходившего на свою беду монаха-странника из Суздальской обители. При коем и находилась записка от тамошнего отца настоятеля. «Смиренного инока, брата Тихона, принять на должный срок, пока Господь даст благословение или знамение какое о переводе того инока в иную обитель…» Письмо это и сыграло злополучную роль в появлении беглого каторжанина в Сергиево-Троицкой лавре. Федька Кривой (оба глаза были в порядке, но левый щурился), как истинный душегубец, намерения свои тщательно скрывал. Скрыл он и свою воровскую грамотность до поры до времени. Была у него с собратьями-артельщиками договоренность: метить на крохотных листиках свои слова подписными крестами с толстой, изогнутой, как подкова, нижней перекладиной. За то и получили эти воры прозвище «крестники» у полицейских властей.
Когда бывшего Тихона увозили, сбежался смотреть весь монастырь. Федька Крестник-Кривой скалил зубы и грязно ругался. Исправник дважды ткнул в его сопливую пасть кулаком. Белоснежная перчатка тут же окрасилась кровью. Федька продолжал бессвязно ругаться. «Господи, прости его, — донесся за спиной помертвевшего от страха отца настоятеля чей-то знакомый голос. – Ибо не ведают, что творят. Так сказал Ты на Голгофе, когда страдал за нас на кресте. Прости, Всеблагой, и помоги нам, душам заблудшим…»
* * *
… Полковник Тищенко, начальник охранного отделения Сергиево-Троицкого посада, немало был удивлен таким успехам в розыске беглых каторжников. Попадись ему такой монах, каковым был Федька Крестник, тот час же сделал из него секретного сотрудника охранки. А то и агента по надзору за местом. Смотрящего, если говорить потаенным языком охранно-сыскного отделения. Подчиненного отдельному корпусу жандармов. При III-м отделении личной канцелярии государя императора… Таковым, по жандармским учетным ведомостям, у него числился сам отец настоятель. Согласно тем же документам, носил служебно-оперативный псевдоним «отецъ Павлин». Поэтому жил он, припеваючи, не зная ни тягот, ни забот жизни монашеской. Девок к себе ночами водил да баб замужних. В последнее время не гнушался и шлюхами из нумеров г-жи Фрикель. Тут усердия Федьке Крестнику было не занимать…
К слову, г-н полковник давно уже присматривался к этому жуткому малому. «Эка он, братец ты мой, быка за рога и к земле, — шутил в полном одиночестве Валерьян Арнольдович, подтачивая за делом и без него серебряной пилочкой свои полированные ногти. – Его бы к нам в информаторы. То бишь, в агенты тайные… Позже – отрядить на боевую операцию, в «Союз русского народа». Такому жидов и социалистов гвоздить все равно, что козла доить. Никакому быку его не одолеть…» Намеревался уже г-н полковник запросить охранное отделение по месту бывшего пребывания «смиреннейшего Тихона». Но опередил его сам Тихон (вернее Федька Кривой) и вставший на его пути Зосима. Так бы не случилось — совсем ничего! Сразу на два крючка угодил будущий секретный сотрудник. Не отвертелся бы у меня, каналья! О таком счастье даже самые маститые оперативные чиновники из охранки мечтают. И то раз в столетие происходит. И никому, кроме Господа нашего над всеми предстоящего, не ведомо грядущее. Что будет в новом и счастливом (как бы не стенали отцы церкви) 1914 году от Рождества Христова.
Пули сербского террориста из «Млада Босна» Гаврилы Принципа уже сразили претендента на австрийский престол эрцгерцога Франца Фердинанда с супругой на улицах Сараево. Случилось это явное политическое убийство при явном попустительстве сербских властей, которые как будто намеревались столкнуть Австро-Венгрию и Россию. Дураку было понятно, что за призраком мировой катастрофы стоит Туманный Альбион и Американские штаты. Полковник отдельного корпуса жандармов (в прошлом), в настоящем — начальник охранно-сыскного отделения Сергиево-Троицкого посада намечал съездить этим летом в Крым. Погостить с неделю-другую с женой и дочерью в Ялте. У дорогого его сердцу друга, которого звали Андрей Иванович Курочкин. Был он действительным полковником русской армии от инфантерии, то бишь пехоты-матушки. Так говаривал он сам, Курочкин. Посидеть вечерок-другой на тихой, выложенной галькой террасе. Перекинуться в картишки. Исполнить божественной силы романс под луной. «Я помню вас, и всё былое, в моей душе угасло не совсем…» Да-с с… Пока Анастасия Павловна с дочерью Елизаветой (Лизхен, как называл по-немецки ее отец) прохлаждаются на водах целебных да нежатся на пляжах. Принимают утомительные для своего здоровья солнечные ванны в тесных купальных костюмах… Обещанного тайного агента к сентябрю сего года он не предоставит по начальству. Поэтому ожидаемого отпуска пока лучше не испрашивать. Тем более у г-на губернского жандармского начальника, генерала барона фон Вильнера. Тьфу, пропади оно все пропадом! Все карты, «оперативные пасьянсики», спутал этот братец монах. Разрази его гром в ясную погоду.
Да, увидеться с ним не мешало, подумал Тищенко. Разминаясь в гимнастической зале, он сделал выпад-другой. Боксерская груша точно стонала от его сильных, хорошо поставленных ударов. Еще один свинг, еще один хук… В бога, в душу, в мать, говоря по-русски. И говоря крепким русским языком. Ей богу, молодец, господин полковник. Может так статься, что быти вам (и очень скоро) в губернском жандармском управлении на начальствующих должностях. Лучше б именно на них, треклятых. Если Бог, конечно, сподобит, и свинья не съест. Совсем опротивела эта оперативная служба. Все равно, что по нужде в лютый мороз ходить – в открытый солдатский нужник. Поморозишься весь, пока дойдешь. Тьфу, бр-р-р… Ну и что же, где этот строптивый монах? Алеша Карамазов, как бишь его там? Сергиево-Посадским будет… Пока все удавалось переводить в шутку, но на душе у г-на полковника скреблось неспокойно. С утра он устроил образцово-показательный разнос младшим чинам охранки, филерам и сыскным агентам. Это не помогло избавиться от подступавшего беспокойства. Оно угрожало заполнить собой все и вся. Вытеснить собой весь прежний, уютный и прекрасный мир. Сузить его до пределов страшного, непонятного мирка, где все мутно и страшно. По-волчьи воют собаки и хрипло, скалясь, как черти на лубочных картинках, говорят между собой люди. Тени от истинных людей, созданных по образу и подобию Божьему.
Вот так-так, подумалось г-ну жандармскому полковнику Тищенко. Вы, милейший государь, уже осознаете свою грешную натуру и греховную суть. Скоро и каяться начнете, придя в храм. Запалив свечку пред святой иконой. Слухами наш департамент полнится, что ныне покойный (от пули в висок) г-н полковник З. тоже преуспел в монашеском смирении. Одного святого сподвижника в сане священника приобщил к тайному сыску. Основал этот «святой» рабочие школы, столовые да приюты. Даже до «православных профсоюзов» — прости, Господи! – чудь не дошло. Но миловал Ты нас, Спаситель, от срама сего позорного. Сохранил Россию-Матушку от социалистических англосакских нововведений. Ударился этот «раб божий» в бега после известных печально событий 1905 года. На площади дворцовой, по вине сего расстриги, немало полегло от пуль солдатских. Удавленным нашли, беса этого, в священнической рясе.
После некоторых раздумий г-н полковник вызвал к подъезду своего департамента небесно-голубой «Паккардъ», недавно выписанный из Франции. К продукции отечественного завода «Руссобалтъ» Тищенко относился крайне спокойно. Облачившись в английский suit из тонкой, красно-коричневой шерсти, он велел шоферу доставить его в монастырь «скит», что располагался внушительно от посада. Согласно легенде (для своих же соглядатаев-филеров) он, Тищенко Валериан Арнольдович, отправлялся изучать объект возможной вербовки секретного агента. Однако, прибыв на место, г-н жандармский полковник удачно «потерялся» в толпе богомольцев. Подсел в экипаж с мертвецки пьяным кучером. С приклеенной серой бородкой и черными очками-консервами, не узнанный никем, похожий на актера, бежавшего из провинциального театра, Тищенко благополучно доехал до Сергиево-Троицкой лавры. Дождавшись ночи в укромном месте за трапезной, он тайно (по известной ему галерее под стеной) проник в келью отца настоятеля. Пользуясь отсутствием своего тайного агента, г-н полковник охранного изучил все «неправедные приобретения». Именно — сбываемые меха, золотые и серебряные оклады, монеты, портсигары, цепочки, кольца и брошки сделали «отца Павлина» еще большим подлецом и невеждой. Во всяком случае, в глазах своего непосредственного куратора. «Я этой каналье, такой-рассякой, устрою за блуд, — проскрежетал зубами Тищенко. – Почище Варфоломеевской ночи…» Ужасаясь, он пролистал модные парижские журналы с фотографиями обнаженных красоток. Здоровенные, с плечами атлетов мосье (тоже в костюмах ветхозаветных человеков) совершали с ними немыслимое. Порядочного человека давно бы стошнило и вывернуло наружу… «Вот она, наша православная, великая Русь! Одно лишь название осталось. Ведь были же сто веков. Киевская Русь. Первопрестольный град Московский. Господи, воистину, пришли времена мерзости и запустения! Да-с с , в величественных храмах Господних. Что же делаем мы, царевы слуги? Опричники и сатрапы, перед лицом надвигающейся революционной бури? Господь Всевидящий, кончится ли эта чума…»
В помойном ведре, полном куриных костей (ими «отец Павлин» подкармливал цепных кобелей) Тищенко заметил золотую цепочку. К удивлению своему, он обнаружил на ней образок виде золотой книжицы с ликом Сергия Радонежского. Великого Святого Земли Русской среди мерзости… Кое-как отерев свою находку, г-н полковник спрятал ее в кармане дорогого английского suit. Это знамение Божье, когда-нибудь может пригодиться, мелькнуло у него в голове.
Чу! На пороге кельи, превращенной в преступный вертеп или подобие нумеров г-жи Фрикель, раздались знакомые, суетливые шаги. Лязгнул ключ в кованной скважине. После двух поворотов кованная железом дверь плавно (смазывает, каналья!) отворилась. В проем , как у блудливого кота, первым «зашло» мясистое лицо с оттопыренными губами. Борода раздалась во все стороны русым веником. Кланяясь и виляя толстым задом, «отец Павлин», секретный сотрудник охранки, он же настоятель Свято-Троицкой лавры, подошел к своему куратору.
— Ты как несешь службу сукин кот!? – рука г-на полковника, обтянутая кожей, врезалась в крупный, мясистый нос «отца Павлина». – Тебе кто, выбл…, позволил мздоимствовать да шлюх из нумеров пользовать! А, мерзавец!?! Отвечать, мразь! Живо, каналья! Ублюдок…
Тот отлетел на пару шагов. Звонко тюкнулся «пустой» башкой о помойное ведро. Тищенко сорвался с места. В следующий момент он схватил своего секретного сотрудника за патлы. Сунул мясистой рожей в чан с куриными костями, яичной скорлупой и прочими нечистотами…
— Помилуйте, ваше превосходительство… господин полковник… Валериан -свет-Арнодыч… Заступник мой, душа моя… — лепетал отец настоятель. – По неразумию своему! Грешен… ох, как грешен пред Господом нашим человече! Помилуй мя, Господи, срамника окаянного. Спасе мою душу, Пастырь Небесный…
Тищенко, навозив его вдоволь, отпустил из своих цепких «клешней».
— Попробуешь мне разводить плесень, как в помойном ведре – утоплю! – грозно бросил он. — Работать надо, святые отцы, работать! А не грешить на всю ивановскую! Бестия…
— Да я… Батюшка вы мой, свет…
— Молчать! – кулак г-на полковника тюкнул секретного сотрудника в темечко. Тот снова завалился к ведру.
Батюшки святы, не рассчитал свои силы, охнул про себя Валерьян Арнольдович. Эка приложился…
— Что твой отрок… как бишь его… Зосима?
— Зосима… — содрогнулся в ужасе отец настоятель. Окарач он ползал вокруг ног г-на полковника. Целовал навощенные туфли фабрики «Скороходъ». – Не припомню такого, батюшка… заступник ты наш…
— Короткая у вас, однако, память, батюшка, — съязвил в меру возможностей Тищенко. – Наикратчайшая, я бы так сказал! Все молитесь да молитесь. У Бога мудрости просите. На память еще не намолили?
— Помилуйте, ваше превосходительство…
— Молчать! Вот что, милый мой… Слушай, запоминай и исполняй – слово в слово! Контроль с него не снимать, но жесткие мероприятия нам не к чему. Пока не к чему…
— Слушаюсь, ваше превосходительство. Разрешите исполнять?
— Разрешаю. Ещё… Со временем ты нас сведешь. Здесь…- бросил ему «хозяин», теребя ус. – Время не терпит отлагательств, — смягчившись, он добавил. – Вот еще что, святой отец. На будущей неделе, в страстную пятницу, буду у вас в Трапезной инкогнито. На службе. Не вздумай подходить… сю-сю, мусю и тому подобное… Намерен исповедаться и причаститься. Грешник я великий, — молвил он, видя потрясение «отца Павлина». – Поболее, чем ты, сударь мой. Ты уж уважь… прими у меня исповедь. И сам заодно покайся в своих грехах пред Господом нашим. Уразумел?
— Как прикажите, ваше превосходительство, — пролепетал отец настоятель. – Осмелюсь спросить, исполненный смирением и глубочайшим раскаянием пред Всевышним…
— Ну, что еще? – нетерпеливо бросил Тищенко. Он уже сорвался с места, захватив канотье из египетской соломки и тяжелую трость с набалдашником. — Говори уже, раб Божий. Обшитый кожей.
— Правду глаголют, что война грядет смертоубийственная, и глад, и мор… — начал было «отецъ Павлин», но тут же осекся. Вовремя заметив две тревожные черточки, которые сошлись на лбу у г-на полковника…
Не скрывая своего омерзения, г-н полковник прошел через потайной вход наружу. Шествуя по извилистому каменному подземелью конца XVII века. Возможно, эти замшелые камни, по которым струилась влага, помнили робкий шепот и причитания, угрозы и мольбы сильных века того. Возможно, подумал Валерьян Арнольдович, выйдя на свежий воздух. Белокаменная стена, взметнувшаяся под небеса своими зубцами, круглые башни с деревянными шатрами в который раз поразили его воображение. Мощный столб невиданной силы, не сравнимой ни с какими мирскими (особливо, служебными!) радостями пронзил его с ног до головы. Какой же убогой показалась г–ну полковнику вся его прежняя жизнь. С ее мелочными страстишками, карточными долгами (в кругу своих единомышленников по корпусу жандармов, а затем охранному отделению). Всё! Оревуар тебе, прошлое, произнес Валериан Арнольдович. Низко надвинув шляпу-канотье, он проследовал через главные ворота с образом Преподобного Сергия Радонежского с горящей лампадой. На него, с колен, или отбивая земные поклоны, крестились четверо мужиков-богомольцев с нездешних краев. Колокола на звоннице, походящей на расписные луковицы с золотым оперением из крестов, мерно звонили к вечере. По белокаменным резным ступеням, мимо ворот, пробитых ядром от кулеврины времен осады Тушинского вора (Лжедмитрия второго), шли монахи.
Кто из них он, думал г-н полковник. Оглядывая лица, он угадывал в них уровень мирского и духовного. Отдельные (особливо, из молодёжи) не особенно прятали развратные наклонности. У иных похоть так и сочилась из глаз. «Род лукавый и прелюбодейный…» Хоть и обращены были эти слова Спасителя исключительно к иудеям, но монахи их ох как заслуживают. Недаром на одной из икон в Свято-Печерской лавре – «Страшный Суд» — изображены в ярких красках идущие в бездну, озеро огненное, отцы церкви в немалых ангельских чинах. А вот этот, поди, и есть наш Алеша Сергиево-Посадский. Ишь, какое суровое у него лицо. Прямо иконописное…
* * *
…На столе своего служебного кабинета орехового дерева полковник обнаружил синий конверт с золотым обрезом. Это было что-то новое. Никто из подчиненных не имел права входить в святая святых. Видно, смельчак нашелся, недовольно подумал Тищенко. С помощью ножа для резки бумаги он решительно распечатал конверт. Из него выпал лист линованной бумаги. На нем значилось: «Господинъ полковникь! Ожидаю Васъ по адресу: Старопромысловский переулокъ, 10-й домъ, ровно в полночь. Не бойтесь, все в руце Божией. Върный слуга царю и отечеству».
Тищенко даже не думал бояться. Правда, от мысли, что в подчиненном ему охранном отделении угнездился предатель, он не мог отделаться. Давно уже подозревал что-нибудь подобное. Среди агентов-наружников (они же филеры) усмотрел рыжего и бородатого Платона Смелкова, который своей услужливостью («…чего-с изволите, ваше превосходительство?..») навлек на себя подозрение со стороны господина полковника. К тому же из Московской охранки на Смелкова пришла бумага – «Освъдомительный запросъ», согласно коему требовалось предоставить подробнейшие данные по запрашиваемому агенту. Причину, понятное дело, кадровая часть, не представила. Но сам факт подобного запроса красноречиво свидетельствовал: «Прогнило что-то в датском королевстве…»
Выйдя через чёрный ход, он, пройдя задами, обнаружил на стене пару листовок московского комитета РСДРП (б) и одну просто от РСДРП. В них одинаково клеймились самодержавие и его «цепные псы»: чиновники охранки и «голубые мундиры», которые уже давно стали синими, жандармского корпуса. Последние обвинялись в порках розгами, избиениях и прочих пытках в отношении «политиков». Заразы… Зла на вас нету, подумал Тищенко. Вспомнив о своём обете, данном в лавре перед предстоящим таинством исповеди и святым причастием, он остановился. Оглядевши по сторонам, истово перекрестился. Молвил : «Господи, прости мя грешнаго, раба Твоего недостойного». Полегчало… Уже в спокойном состоянии духа он вспомнил, как два месяца назад, на 1-е Мая, его подкараулили у парадного подъезда конторы с десяток юных курсисток. С криками: «Палач! Сатрап! Грязная самодержавная крыса!» принялись забрасывать тухлыми яйцами. На экипаже, который так и не удалось сыскать, взметнулась вспышка фотокамеры на треноге. Стоящий всегда на площади городовой, на этот раз унтер-первогодок Спесивцев, лишь лениво потрусил за ним. Из здания охранки так никто и не вышел.
На Старопромысловский переулок Тищенко пришел за пол часа до указанного времени. Чтобы осмотреться на случай приятных сюрпризов. Да и неприятных тоже, понятное дело. Улица была сплошь не мощенная и состояла из деревянных домиков, с вычурной вязью наличников на окнах, кровлях, калитках и воротах. Редкие фонарные столбы с керосиновыми подсвечниками излучали желтовато-бледный, завораживающий свет. С вечера прошел мелкий веселый дождик. Пришлось ступать по доскам, что были настелены там, где в цивилизованном мире было принято строить тротуары. Возле трактира с огромной жестяной вывеской на цепочке (самовар с калачом, а на другой стороне двуглавый орел монарший со скипетром и державою) топтался незнакомый г-ну полковнику городовой. Судя по яркой белизне кителя, начищенной шашке, прозванной в народе «селедкою», и оранжевому револьверному шнуру, что не был засален, этот полицейский чин был из первопрестольной. Стало быть, г-н московский обер-полицмейстер решил проверить свои кадры – берут безбожно или все ж с оглядкой на Господа…
Из «Трактирь», цепляясь друг за друга, почти что на бровях выползли двое местных пролетариев. Первым был лудильщик Петров, по рождению и крещению сын Афанасьев, вторым же – типографский наборщик Абдилуйн, который «по басурманову крещенью» записан в пачпорте как Рамазан Абдулаев. Татарин, но пьет безбожно. Хотя ездит по воскресеньям в первопрестольную – в мечеть. Все порывается совершить намаз в Мекку. На заметке у полицейских властей. Шапиро Павлом Николаевым, коллегой г-на полковника, начальником сыскной комнаты уголовной полиции при Сергиево-Троицкой части, уличен как «мешочник»: вместе с православной девкой Марфой сбывает краденное. Иными словами, работничек по артели «товар-щи». У Марфы супружничек уже третий год как пошел по Восточно-Сибирскому тракту за душегубство.
— Абд-д-ди-л-луйка! Тьфу ты, черт! И не выговоришь, как там тебя по отцу, — ноги Петрова, как и его язык, заплетались. – Пойдем к твоей Посадской Марфе? Со штофчиком! Пойдем, говорю…
— Какой мой Марфа говоришь? – у татарина округлились узкие глаза. – Никакой мой Марфа моя не знай. Никакой твой мой Марфа нет. Дурак ты, Афанасий. Совсем дурной стал. Пьешь больше моего – башка совсем глупый стала…
— Морда ты, татарская! – в сердцах ругнулся Петров. Подкручивая свой ус, он не удержался-таки: слетел с третьей ступеньки прямо в грязь. – Тьфу, нечисть!
— А вот, сщас! Кобелей обоих да в часть, — лениво процедил сквозь бороду городовой. – Ежели далее шуметь будя…
— Фараонам от нас – низкое мерси и пардон-плезир! — гоготнул Петров. Он вытянул из-под полы сюртука небольшую гармонику. Заиграл «Камаринского». Он бы и сплясал по грязи в своих лакированных сапожках «гармошкой». Но бдительный Абдилуйка потащил его за плечи — от греха подалее…
Тищенко припомнил свою короткую службу в Сочи, что числился при Екатеринодарской губернии. Губернское жандармское управление в Екатеринодаре… Господа, как и он, облаченные в тёмно-синего сукна мундиры с красным галуном и белыми аксельбантами, нисколько не владели оперативной ситуацией в далеком 1905-ом. На военно-грузинской дороге пошаливали абреки. Будто на дворе был XX, но XVIII век, когда Александровский форт дважды вымирал от малярии, а помимо того – вырезался бородатыми душегубами в драных бешметах, коих «справно» финансировала Турция с подачи Великобритании. Грабили приезжих и дачников, присваивали выручку Торговых домов и банков, что доставлялась в Сочи и Екатеринодар. В 909-м было совершено нападение на почтовый дилижанс. Преступников было трое…
Злодеев было три. Когда повязали двух, жителей Эриванской губернии, они свою вину свалили на третьего. Дескать это он, стреляя из трёх револьверов (!), держа в третьей руке (!) саквояж с выручкой, совершил разбой. Третий вскоре сам заявился в полицию. И… взял всю вину на себя. Дабы выгородить своих неблагодарных подельщиков. Тищенко больших трудов стоило через товарища прокурора и председателя судебной палаты Екатеринодара (с обоими приятельствовал, играл в шашки и «винт» в Аглицком клубе) «отмазать» третьего. Того тут же окрестили на манер старых романов Ринальдо Ринальдино. Это тоже была заслуга Тищенко, тогда ещё г-на ротмистра. В бульварных газетах у него была пара секретных сотрудников-борзописцев. Они быстро смастрячили залихватские репортажики и судебные очерки. В них не обошли вниманием высокую стать главного обвиняемого, его «готический нос и бледно-русые волосы скандинавского берсекера». Дамы вздыхали и охали, смахивая кружевными платочками набежавшие слёзы. Это была удача!
— Валериан Арнольдович, — услышал он голос, который показался ему страшно знакомым. – Поди не признали, грешника окаянного?
— Поди не признал, — ахнул Тищенко. Такого поворота событий его душа никак не ожидала, а сердце не предвидело…
Перед них в «унихформе» унтер-офицера городовой полиции, с черно-оранжевыми нашивками за 30-летнюю выслугу, стоял… третий разбойник. Тот самый, о котором г-н полковник изволили задуматься с минуту назад. Кроме всего прочего на белоснежной груди с портупейными ремнями блистала серебряная медаль 300-летия дома Романовых на синей муаровой ленточке. Роман Петер… Тищенко мгновенно прокрутил в уме оперативное дело «А-1» от 21 октября 1900 года, проходящее по оперативному учёту «А». Родился в 1870 году. Уроженец Вильно, из семьи мещан. По учётам охранного отделения Вильнюсской губернии проходит с 1898 года. Конспиративные имена, они же клички или псевдонимы: «Ромуальд», «Остер», «товарищ Роман». Вступил по молодости и по дури в боевую организацию «Латвийские Братья», которые изволили называться «лесными». Для краткости и ясности, как лихие люди в старину. Целью сих господ являлось и является отделении Остзее от Российской империи. Средства борьбы у «братьев» не новы: террор, террор и еще раз он же – террор… Убийства русских солдат, русских полицейских, русских жандармов, русских чиновников. Впрочем, чу! – своих «отступников» они тоже не жалуют. Зафиксированы в протоколах случаи обнаружения в лесу обгорелых трупов. Изжаренных на медленном огне, если быть точным.
— Не стоит! — Роман и не думал теребить клапан кобуры с 45-мм «Смит энд Вессон». – Бесконечно вам благодарен за то добро, что вы оказали мне в 909-м.
— И на том спасибо, — Тищенко подавил в себе желание хряпнуть Романа Оттовича боксёрским свингом. – К вашим услугам.
— Не о том думаете, — усмехнулся террорист. – Вынужден разочаровать вас, господин полковник. Я здесь не по заданию боевой группы «Латвийские братья». И не выполняю поручение какой-либо другой партии. Наподобие социалистов-революционеров. Или социал-демократов. Не беспокойтесь, Валериан Арнольдович!
— И не думаю, душа моя, — Валериан Арнольдович уже успокоился. Начал входить в роль. – Что это за маскарад, милостивый государь? – окинул он бесцеремонным взглядом полицейскую форму. – Изволили кого-то раздеть?
— И не думал, — глаза Романа Оттовича весело искрились. – Сей маскарад, как говорят у вас, в России, к делу касательства не имеет. Никоим чёхом.
— Тогда ближе к делу, — Тищенко краем глаза следил за панорамой едва озарённоё керосиновым фонарём улочки. Не появится ли кто ещё. – Никоим чёхом? Гм-м-м…
— Один приличный господин из высшего общества весьма озабочен вашей судьбой, — начал Романа Оттовича как всегда, издалека. – Велел вам на словах передать свои искренние заверения в своих благих намерениях. Велел также кланяться вашей милости.
— Кто же сей сердобольный господин? – Тищенко так и подмывало, чтобы закатить наглецу оплеуху. Он даже переложил тяжёлую трость с медным набалдашником из руки в руку. – Самое время узнать о нём как можно больше.
— Вы правы, — Петер критически оценил свои перспективы, глядючи на «пригоутовления» г-на полковника. – Только боюсь, если вы свалите меня своим знаменитым ударом левой в подбородок, то ничего не узнаете.
— Не тяните время как резину, милостивый государь, — пепельно-русые усы полковника раздвинулись в усмешке.
— Кланяться вам велел господин по фамилии Рачковский, — докончил Якоб Романович. – Рачковский Евгений Борисович.
Тищенко было достаточно услышать фамилию, имя и отчество, чтобы понять – с ним не шутят. Рачковский был начальником зарубежного отдела Охранного отделения Департамента полиции Российской империи. Вместе с «книжником» Сувориным, владельцем одного из крупнейших издательств «Суворинъ и сыновья», он, по слухам, поддерживал партию большевиков во главе с Ульяновым-Лениным. Снабжал их деньгами, печатал на своих типографских станках прокламации и прочую нелегальщину. Был в тесных сношениях (финансово-деловых!) с такими фабрикантами-миллионщиками, как Савва Морозов и Александр Шмидт. Те, в свою очередь, также не скупились на средства в партийную кассу ВКП (б). Конкурентов что б поприжать, юношеские мечтания какие употребить. Все когда-то были либералами или народовольцами! Хотя бы в душе, чёрт их задери! Шмидт, в частности, организовал забастовку на своей фабрике, чтобы взвинтить цены на свои товары. Рабочим же платил исправно денежное содержание несмотря на простой. Савва Тимофеевич забастовок также не чурался. Но больше жертвовал денежку через актрису императорского театра Андрееву. Сия особа была некоторым образом связана с партией большевиков. Понятное дело, что Морозов был по уши влюблен в эту светскую львицу. Под обещание через N-ное время быть обвенчанной с ним в законном браке, миллионщик отваливал на дело пролетарской, а также мировой революции немалые средства.
— Могу предъявить карточку охранного отделения, — невинно улыбнулся Роман Оттович. – Ежели не верите…
— Отчего ж, голуба, — усмехнулся Тищенко, — душа моя, верю. Ещё как верю.
Возвращаясь домой тёмными проулками, освещаемых керосиновыми и газовыми (кое-где) фонарями, г-н полковник узрел неясную тень. Кто-то не спеша шёл за ним. Шёл или… топтался? Тищенко замедлил шаг. Вслушался. Так и есть. Донеслось торопливое чавканье попавшего в грязь ботинка. Затем всё стихло. Неизвестный (а может, хорошо известный?) ему топтун-михрютка схоронился в темноте. Где-то у лабазов купца Абросимова, обнесённых, точно в старину, при Иване Грозном или Алексее Михайловиче Тишайшем, высочайшим тыном.
У Тищенко не было оружия. Французский семи зарядный «Саважъ» он вместе с наплечной кобурой, которая считалась новинкой в сыскном ремесле, оставил в несгораемом шкафу. Зато под рукой была трость с массивным набалдашником и была пара самих рук. Как-никак, в позапрошлом году на спортивном турнире, проводимом Губернским охранным отделением, он занял одно из первых мест. Поэтому Валериан Арнольдович, постояв на месте, сошёл в грязь. Грузно потопал своими «Скороходами» по тёмно-коричневой жиже. Будто кто уходит. Для большей правдоподобности он вынул из плоского серебряного портсигара египетскую папироску «Месаксуди». Тайно зажёг её. Затем, в такт своих удаляющихся шагов, бросил далеко в сторону. Та алеющим огоньком погасла в луже. Прислушался. Ага, подействовало. В темноте, бледно освещаемой газовым «светилом», шевельнулось. Михрютка, потеряв бдительность, выступил из грязи на дощатый тротуар. Вот оно что! Так и есть – топтун был его собственный агент-наружник, шеф филёрской бригады Платон Смелков.
Убью заразу, подумал Тищенко. Мысли о Всевышнем Боге куда-то улетучились. Сжав в кулаке рукоять трости, он медленно ждал, когда Платон приблизится. Затем, не дав ему опомниться, нанёс быстрый, режущий удар по соломенной канотье. Охнув, филёр тут же завалился в грязь. Обхватил голову руками. Прижал колени в клетчатых камлотовых панталонах к животу. Сквозь пухлые пальцы с золотым перстнем с печаткой (разбогател поди?) текла багровая струйка.
— Встань, подлец! – негромко скомандовал Тищенко.
— Бить не будете, ваше превосходительство? – прогнусил тот.
— Да уж надо бы… — с сомнением протянул г-н полковник. – Только ежели дернешься, тогда уж не обессудь.
— Люди мы подневольные, — поднимаясь на ноги, продолжал хныкать Платон.
* * *
Воспоминания… Кому из нас они дают жить спокойно, если не все из них – в ладу с человеком? Тищенко Валерьян Арнольдович также был не в ладу с некоторыми из своих воспоминаний. Особенно из января 1905 года, когда толпы народа с петербургских окраин, ведомые попом Гапоном, пошли к Зимнему дворцу. Акция была спланирована как единение монарха с народом. Так, во всяком случае, считали в канцелярии Санкт-Петербургского Охранного отделения, что расположилась в солидном доме с колоннами, но без вывески на одной линии с Летним садом и Марсовым полем. У единственного в Северной Пальмире моста со Сфинксами, что был с деревянным настилом. Были вызваны усиления из губернских охранных отделений. В том числе московского, с коим в Санкт-Петербург прибыл и Тищенко.
Толпы, одетые в праздничное, расцвеченные хоругвями и иконами, с портретами царствующих особ и трёхцветными знаменами дома Романовых шли и шли. Они стекались с окраин, соединяясь на Фонтанке у Литейного и Цепного моста. Была удивительно ясная зимняя погода. На улицах и крышах домов белел свежий снег. А повсюду стояли войска, что прибыли загодя. Проходя по дежурству в наряде через Сенатскую площадь, Валериан Арнольдович с вечера успел заметить козлы из винтовок, часовых в тулупах у зарядных ящиков. Теперь солдаты серыми шпалерами виднелись по всему Невскому. У всех мостов. Они загораживали народу путь к цели. К царю. Но… Крик радости прошёл по толпам: «Пущают! Батюшка сам нам дозволяет!» Это кричал наверняка кто-то из «подставных»: внедрённых в толпу агентов охранки. И вот люди хлынули через арку с колесницей, оказавшись меж «крыльями» Генерального штаба, перед Александровским столбом, воспетым ещё Лермонтовым. «…Взметнулся выше он главою непокорной Александрийского столпа…» Сверху на чёрно-серое «возмущение» взирал крылатый Ангел с ликом Александра I. Загораживая путь к Зимнему, окрашенному в цвета «бычьей крови», стояли шеренги всё тех же истуканов в заиндевевших бескозырках и башлыках, с приткнутыми штыками. «…Вам, сволочам, японцев надобно бить! Пущай к царю! Живо, говорят!» Взгляд Тищенко нетерпеливо блуждал по окнам и портикам вычурных балконов. Вот-вот там должен был мелькнуть силуэт. Появиться блаженной памяти государев облик. Но время всё шло, а государь всё не возникал. Похоже он и не собирался выходить к народу. От этой мысли у Тищенко защемило от ужаса грудь. Ледяное волнение разлилось по членам. Стали ватными, почти не послушными ноги. Налилась прозрачной пустотой голова. Внезапно ужасная мысль подкатила к горлу. Наполнила его удушьем. Их заманили! В мышеловку. Ловушка… Провокация… Как он, служа в ведомстве империи, изначально предназначенном для того, чтобы взращивать провокаторов и сексотов, не смог сам дойти до этого? Видя такое скопление войск… Воистину, знание оглупляет и ослепляет. Если им не делиться с ближним. Сиволапым мужиком и рабочим, средь коего люда есть немало достойных представителей ВЕЛИКОГО РУССКОГО НАРОДА.
Его взгляд метнул в сторону тревожные искры. Он увидел своих сотрудников-филёров, в касторовых котелках, рабочих картузах, меховых шапках. Они также начинали догадываться, в какую западню попали. Но было поздно. Оставалось уповать лишь на Бога. И рука Тищенко произвольно поползла к груди. Расстегнув енотовую шубу, он залез под пиджачную пару. Вынул золотой нательный крестик. Приблизил его к губам. Поцеловал… Затем, перекрестив в давке свою грудь, начал мысленно крестить толпы народа. «…Тю, барин! Да вы никак от счастья одурели! – рассмеялся рабочий парень. – Царя повидаете! Эко счастье выпало!»
Пузатый полковник, придерживая шашку, сделал какие-то знакомые ему распоряжения. По губам Тищенко понял: всё, начинается! Так и есть. Офицеры забегали вдоль рядов, заняли места у своих рот, взводов и отделений. Вскоре первая шеренга опустилась на колено. По команде солдаты вскинули винтовки Мосина образца 1891 года с игольчатыми штыками. Сухо заклацали в морозном воздухе затворы. Заиграл военный рожок. Над площадью, поверх людского моря, валил пар. На минуту его не стало. «…Пощади, Господи! Царица Небесная, заступница-матушка…» — успел выдавить из себя кто-то, прежде чем небо разорвало, а земля под ногами качнулась. Залп…
С дикими криками бежало т о, что с портретами, знамёнами и иконами, организованно, под незримым оком охранного шло с рабочих окраин. Снег усеивали калоши, трости, шляпы, шапки. Бежали, спотыкаясь и падая. Топтали образа со святыми. А снег уже покрывали трупы и кровавые пятна. Тищенко бежал зигзагом, пригибаясь и падая. Он намеренно не поддался толпе, не позволил себя увлечь в бурный водоворот. Там теряли силы. Там могли раздавить прежде, чем настигла бы пуля. Он видел тела своих сотрудников, коим не повезло. А серые шеренги пришли в движение. Строй сделал по команде шаг. Ещё вперёд. С выставленными штыками колонны солдат, стреляя на ходу по бегущему народу, как на манёврах двигались вперёд. Один офицер с обнажённой шашкой, зайдя слишком далеко, шатался как пьяный. Увидев дёргающееся на снегу тело, он проткнул его блескучим лезвием.
А по Невскому, подсекая толпу с боков, занеся над ней изогнутые лезвия, мчалась кавалерия. То ли из потайных петербургских дворов, то ли из Летнего сада, то ли ещё откуда. Драгуны, молодцеватые и усатые российские парни, с белыми перевязями поверх серых шинелей, в белых заломленных бескозырках с жёлтым околышем. На танцующих, тонконогих золотисто-коричневых конях они опускали сабли на спины и головы бегущих, рубили крест на крест выставленные для защиты ладони. «Крестили» и женщин, и стариков…
Тищенко толкнул в спину Платона Смелкова, агента-наружника из московской охранной группы. Тот, с окровавленным лицом, с одной калошей, тащил волоком старика чёрном пальто с бобровым воротником. Сам Тищенко устремился к молодой женщине. Она лежала, согнувшись в три погибели, у каменной тумбы. Её топтали ногами пробегавшие. Схватив её под мышки, подполковник потащил раненую на Невский. Там тоже трещали залпы. Доносились истошные вопли. Лёд усеивали чёрные фигурки бегущих. Никаких извозчиков не было и в помине. Они выполняли инструкцию полицмейстера и градоначальника. Дворники, они же нижние чины городовой полиции, задраили ворота проходных. Туда мог ломонуться «преступный елемент», коего сейчас не было. Исчезли и сами городовые в чёрных шинелях, круглых барашковых шапочках, с «селёдками». Город как будто остался без власти.
Он дотащил раненую в ключицу даму до одной из конспиративных квартир. Отпер дверь. На диване осмотрел рану. Слава Богу, кость была не задета. Рука двигалась свободно. Дама была лет 25, не более. И пустили же её матушка с батюшкой, прости их Господи! Разорвав батистовую сорочку, он сделал двойную перевязку. Из сумочки с ридикюлем г-н подполковником был извлечён паспорт жительницы московской губернии Померанцевой Настасьи Филипповны.
* * *
Из свидетельства митрополита Вениамина (участника Московского церковного собора 1917-1918 гг.):
«…вторым весьма важным моментом деятельности Собора было установление взгляда и поведения Церкви по отношению к советской власти. При борьбе Советов против предшествующей власти Керенского Церковь не проявила ни малейшего движения в пользу последнего. И не было к тому оснований. Когда Советы взяли верх, Церковь совершенно легко признала их власть. Не был исключением и митрополит Антоний, который после так ожесточённо и долго боролся против неё вопреки своему же прежнему воззрению. Но ещё значительней другой факт. При появлении новой власти ставился вопрос о молитве за неё на общественных богослужениях. Так было принято при царях, так, по обычаю, перешло к правлению Керенского, когда Церковь вместо прежнего царя поминала «благоверное Временное правительство», так нужно было поминать и новую власть. По этому вопросу Собором была выработана специальная формула, кажется, в таком виде: «О стране нашей российской и о предержащих властях её».
* * *
… Контра он и есть, — раздался приглушенный голос за стеной кельи. Из замкнутого каменного пространства доносился лязг оружия и грохот тяжелых, кованых железом сапог и ботинок. – Будет какая команда, товарищ Быстрый? – в узкий, изогнутый каменной подковой проем кельи, украшенной каменными завитками, просунулась голова в кожаном картузе с пятиконечной, вырезанной из жести звездочкой. – Мы устали ждать. Этот старик отнимает у нас много сил. Шлепнуть его прямо здесь, товарищ Быстрый, и делу конец. А то церемонимся с таким! Наших ребят их головорезы шашками, того… Кожу с живых сдирают, сучье племя.
— Опомнитесь, грешные создания! – провозгласил Зосима. Глаза его оставались добрыми и лучистыми, хотя лицо потемнело. Кожа сделалась неживой, как воск со свечи церковной. – Хватит лить кровь. Ее на наш век будет довольно! Этот мир желает добра и света в образе Отца и Сына, и Святого Духа! Не будьте убийцами века сего, иначе проклянут вас навек дети ваши и дети ваших детей. Или, — мягко улыбнулся он помертвевшими от страшной тяжести губами. – Неужто нет с вами, окаянными, бесов прислужниками, Слова Божьего? Разве не дано оно было нам от сотворения мира? От начала всех начал? Прочь с глаз моих, охальники…
Товарищ Крыжов, уполномоченный ВЧК по изъятию церковных ценностей, почувствовал легкое поташнивание. У него, славного, доброго парня, преданного великой революции, начинали мертветь конечности. Пальцы судорожно зацарапали по деревянной крышке маузера. Как будто вновь, телом и душою, оказался он на передовой. За густыми рядами колючей проволоки. В ту страшную, зимнюю ночь 1917 года на Рижском фронте, где и был им добыт этот чудовищный германский десяти зарядный чудо-пистолет. С кобурой из дерева, могущей служить прикладом. Глядя в суровые, но полные истинного тепла и истинного добра, глаза православного старца, Крыжов открыл некую потаенную задвижку в своем сознании. Ему пришлось снова пережить тот декабрьский день под Ригой, когда германцы попробовали штурмовать позиции Серпуховского полка. После часового обстрела из орудий и бомбометов, стальноголовые цепи в землисто-зеленых, коротких шинелях пошли в атаку. Впереди, по кочковатому, заснеженному полю с червоточинами от воронок и спутанной паутиной рваной колючки, двигались две бронемашины. Тяжелые, сплюснутые с боков, железные черепахи, покрытые бугристой клепкой по серой, гладкой броне. С тщательно выписанными по трафарету черно-белыми крестами. Из пулеметных хоботков, что венчали круглые башни, вырывались язычки красного пламени. Пули дум-дум, подумал тогда он, Крыжов, крепче вжимаясь в заледеневший бруствер. Вольноопределяющийся русской армии, юный и безусый… В руках у него была простая трехлинейная винтовка Мосина с приткнутым штыком. К широкому ремню – пристегнуты две французские гранаты, которые использовались для подрыва проволочных заграждений. «…Павел, они нас не сомнут, — упрямо шептали его побелевшие от мороза губы. – Им нас не взять…» Полк был наполовину укомплектован новобранцами из Саратовской губернии. Следующая очередь из стальной круглой башни прошла совсем близко. Прапорщику Седельникову разорвало грудь… «Уйди!» — сказал он тогда кому-то в себе. В глубине своей неосвещенной души. Перебравшись через два мертвых тела, он подполз к мертвому Седельникову. Вытащив из еще теплой кобуры запотевший наган. Перемахнул через некогда белый и пушистый, но почерневший от гари бруствер. Пули дум-дум так и пели. Вспахивали перед ним мертвую землю. Но он все-таки достиг своей цели. Двумя тяжелыми французскими гранатами поразил стальное чудовище с мальтийскими крестами (panzer-wagen). Второй бронеавтомобиль оказался на гусеничном ходу. Прорвавшись через линии траншей, он оставил позади себя груду расплющенных бревен и человеческих тел. Это стальное чудовище было расстреляно полковой артиллерией. Спрятавшись под стальным, заглохнувшим от взрыва днищем, Крыжов переждал бой. После чего, никого не стыдясь – все же герой! – вернулся на позиции. Принес с собой германское чудо-оружие (Mauser-Verke), снятое с тела убитого тевтона-бронетехника в обгоревшей, пропитанной машинным маслом кожаной тужурке…
— Пусть останется здесь, — неуверенно молвил товарищ Крыжов. – Этот старик мне чем-то пришелся, товарищи. Что-то в нем не от контры есть. Революцию он нашу не принял? Ну, и шут с ним, со старым хреном. Товарищи, все свободны! Оставьте нас одних. Может, о чем с ним и договоримся…
Он сделал своим товарищам по ВЧК едва заметное движение. Хрустнул плечом, затянутым в тесную автомобильную кожанку. Проведя у себя пальцем по лбу, Крыжов дал понять, что задержек не потерпит. Через одно мгновение в узкой, но заполненной чистым духом келье, не осталось никого. Кроме тех, кому суждено было остаться. Крыжов неслышно попятился. Наткнувшись на камень стены, он вздрогнул. Медленно сполз по шершавой поверхности вниз. Оказавшись там, он положил деревянную кобуру маузера на колени.
— Что, поговорим, отец святой? – с усмешкой произнес он, избегая встречного взгляда. В нем явно ожил мятежный дух Артура из романа Войнич «Овод». Крыжов вздумал подражать этому бунтарю-атеисту всю свою сознательную жизнь. И вот подходящий случай представился. – Пусть тебя не смущает мое положение. Я неизмеримо выше тебя и твоего Бога. Коленопреклонений от меня не дождетесь, мракобесы вековые. Что, разве не так? Ты думаешь, что новой власти трудового народа нужен ваш хлам? – он негодующе обвел глазами каменное пространство со святыми иконами и тускло тлеющей лампадкой. – Что ты, святоша, знаешь о нас и нашей революции? Ты нас ненавидишь и презираешь, святой отец. Мы еще с тобой церемонимся… Эх ты, святоша! Ничего, кроме ладана да икон тебе не ведомо. Знаешь ты звук пролетающего снаряда? Или запах фосгена – германского смерть-газа? А?.. Ну, что вы молчите, милейший? Нет, ни того, ни другого твоя никчемная душа не знала. Знать она того никогда не желала. Вот что! Все это лишь нам известно, бойцам пролетарской революции. Нам, что в окопах гнили, да по лазаретам полевым стонали. На культяпках одних на вокзалах ковыляли и милостыню выпрашивали. Во имя того, чтобы не повторилось это, совершили мы нашу великую пролетарскую революцию…
— Так будьте честны пред собой и пред Богом, — ответствовал ему Зосима, держа перед собой старинного литья серебряный крест от почившего старца Никодима. – Не будет России, не будет и нашего мира. Если так, то творите добро для мира и для России. Пусть будет вам в помощь Господь Всевышний. Даже тем, кто в Него не верит и Его отвергает…
Крыжов с минуту посидел, прислоненный к шершавой стене. Наблюдал в эти мгновения лицо убитого под Ригой прапорщика Седельникова. Юное и безусое, как у большинства офицеров и солдат Серпуховского полка. Потом мысленный взгляд его незримо повернулся в сторону сгоревшего германского бронетехника. У того и у другого на губах в момент смерти застыла легкая улыбка. Глаза были широко раскрыты и немного испуганы в глубине своей. Что видел тот и другой в тот самый миг, когда смерть объяла его? Впустила в свои темные (как повествуют об этом классики) чертоги? Может быть, и тот, и другой не видели ничего, кроме Жизни Вечной? Имя, которой Господь Бог, Всевышний Создатель и Великий Судия. Вселенной, созданной по образу и подобию…
…Господи, с легкой надеждой подумал Крыжов, я же шел к этому торжественному и страшному мгновению через всю свою жестокую жизнь. Меня томило чувство, что я кем-то занят. Что меня кто-то ждет на краю света, где нет ничего, кроме любви и тепла. Где кругом тихая заводь… Но в ней есть и Великая Жизнь, о которой говорит этот печальный старец. Господи, а ведь минуту назад я считал его контрой… Нет, как я был не прав, глупый и несчастный юноша! Познавший страшную войну, но не познавший себя и жизнь. Разве с ожесточенным сердцем можно создать новую жизнь, к которой стремимся все мы? Господь Бог, если Тебя нет, то почему же Твоя Великая Сила пребывают в сердце моем? Почему же душа моя не осталась за вратами этой великой обители? Душа все же есть в сердце человеческом. В сердце всего нашего многострадального, великого человечества. Имя которому – Жизнь Вечная.
— Ну, хорошо, — молвил он, поднимаясь с вытертого им каменного пола. – Ты меня одолел. Нет, постой! Не одолел, нет. Ты убедил меня, святой человек. Не уходи из моего сердца, отче. Не такой я, как ты думаешь. Все мы не такие. Все мы другие, человек ты Божий. Вместе с тобой, выходит, и я тоже, — сказал и засмеялся, сознавая, что жизнь возвращается. – Так помоги же мне понять ее, эту Жизнь Вечную. Помоги нам всем, отче. Не держи на нас, неразумных, зла…
С этими словами чекист Крыжов, имевший внутренний оперативный (некогда конспиративно-подпольный) псевдоним «товарищ Быстрый», осторожно приблизился к православному старцу. Ноги его сами по себе обмякли. Неожиданно для себя он опустился на колени.
— Благослови, отче, на труд. Нет, на битву за то, о чем здесь говорилось, — вымолвил он едва слышно. – Что б душа моя осталась живой в этом аду и всегда была с тобой, отче. С детства я люблю лик Христа, Спасителя всего человечества. Но молиться не получается уже давно. Разуверился, что церковь наша – прибежище Духа Его. Ты вернул меня к этим мыслям, отче. К этой вере великой. Благослови меня, грешного. Будь со мной во веки вечные.
Зосима был ни жив, ни мертв, когда слышал эти бренные слова. Многое выпало на его долю в исповедальне. Люди приходили к нему с разными мыслями. Видели в нем разное существо. Одни думали, что святой (в их понимании) старец вольет в них новые силы жизненные. Другим виделось, что многоопытный духовник стерпит вся грязные подробности чужой жизни. Все тяжкие терзания по убитой совести, где был самый отъявленный блуд, неистовое питие и даже детоубийство. Весь мир пронесся перед его незримыми духовными очами, когда слышал он эти слова и видел он эти мысли. Но… В его внутреннем божественном мире, коим стало его просветленное сердце, появилась надежда. Этот молодой человек в кожанке, с большой деревянной кобурой на портупейном ремне, который несколько «веков» назад (прошедшие минуты казались вечностью) хотел убить его, сейчас беззащитно стоял перед ним на коленях. Как последний грешник. Как сам Зосима в свое время перед своим духовником, отцом Никодимом. От него передалось юноше древнее знание старчества, что восходило своими древними корнями к Святой Руси. Христианство пришло из Византийской империи, бывшей когда-то частью Великого Рима, распявшего Спасителя, Сына Божьего и Сына Человеческого. Зосима вспомнилась история сотника (центуриона) Лонгина из римских легионеров. Те, кто распинали, первыми уверовали… Как все просто, подумалось ему. Неслышно осенив стоящего перед ним на коленях крестным знамением, он вымолвил:
— Благословляю, сыне. Иди с миром. Да пребудет с тобой Великая Сила нашего Бога Иисуса Христа и Духа Святого…
Вечером, участвуя в оперативном заседании коллегии ВЧК в Москве, товарищ Крыжов выглядел необыкновенно спокойно. Веки его не горели, как обычно, той воспаленной краснотой, которая была признаком авральной работы. В городе было неспокойно. Вспыхивали перестрелки между шайками зарвавшихся бандитов, охотившихся за спекулянтами и скупщиками краденого. Оперативная группа ВЧК не раз выезжала на места подобных схваток. Расстреливала на месте пойманных бандюг. Отмечалось, что главарями «артелей» являются бывшие офицеры старой армии. Были ли это агенты белых разведок или просто «голубые князья», оказавшиеся, как щепки, в омуте истории… Это предстояло выяснить. Взять «на дополнительную проработку», как выразился помощник председателя коллегии ВЧК. Это был крупный, приземистый и широкоплечий латыш с голубыми глазами. Напоследок, когда итог заседания был подведен, он сделал едва заметное и знакомое движение рукой. Показал товарищу Крыжову, что нужно остаться. Так требовалось – по всем законам той важной смысловой жизни, которую вел товарищ Крыжов.
— Вы о чем так проникновенно думали все заседание? – спросил его помощник председателя коллегии ВЧК, когда они остались один на один в старинном кабинете с дорогой мебелью и панелями из редких пород дерева. – За всю мою жизнь мне всего только раз приходилось видеть столь глубокий, проникающий взгляд. Когда я был с товарищами по партии в Вене. Будучи на нелегальном положении, там скрывался один хороший, известный сейчас всему рабочему классу человек. Когда мы вошли к нему, в апартаменты одной дешевенькой гостиницы, этот «старик » был очень рад видеть товарищей из далекой России. Он долго пожимал нам руки и напоследок заявил, что любит нас. Как если бы мы были его детьми или братьями. У него был столь же проникающий, большевистский взгляд. Вы понимаете, о чем я говорю, товарищ Крыжов? По-моему, нам есть, что сказать в это мгновение. Накануне нашего разговора я истребовал из архива ВЧК ваше личное дело. У вас невероятно интересно протекала жизнь до того, как вы пришли в революцию. В нашу «святую обитель», дорогой товарищ. Расскажите-ка о себе подробнее, не опуская ни единой детали. Будьте столь любезны, только своими словами…
Пока товарищ Крыжов терпеливо рассказывал ему о себе, помощник председателя коллегии ВЧК терпеливо поглаживал свой мощный, волевой подбородок с выпуклой ямочкой. Кисть левой руки давала о себе знать. На одной из таких же маевок, в которых участвовал (будучи в студенчестве) этот «товарищ Быстрый», конный жандарм рассек ему руку ударом плети. Он не испытал тогда ненависти к русским. Он не испытывал ее никогда. Хотя старое царское самодержавие ненавидел и поныне. Так ненавидел, что, не задумываясь, попросился бы в расстрельную команду. Окажись он в Тобольске, где содержался бывший и последний русский император Николай II (Романов) со своей августейшей фамилией. По слухам там некоторые, из числа слишком сердобольных и классово неподкованных товарищей проявили сентиментальность. Даже на жалость их потянуло к бывшим самодержавцам. Таких гнать надо взашей из партии и ВЧК, а не гладить по головке. Ишь, выискались гуманисты – проявлять снисхождение к врагам революции! Когда разрушается целая эпоха: падают троны и слетают короны. Строится новая, истинно светлая, пролетарская жизнь. Не беда, что так обильно льется кровь. Революция, как повивальная бабка. Слова товарища Карла Маркса, который, как известно, слов на ветер не бросал. Не имел такой привычки. А имел, как известно, жену из дворянского сословия, солидный счет в банке и многое другое, что простым пролетариям и не снилось. Ну-ну, батенька… Впрочем, этот юный чекист Крыжов не из числа таких перевертышей. Он, конечно, не видел и малую толику того, что ему придется увидать. Что довелось испытать сидящему перед ним боевому товарищу и пролетарскому наставнику. Правда, всему свое время. И оно придет, дорогой товарищ. Скорее, чем вы думаете. На фронте, говоришь, ты был? Посмотрим на твой «фронт». Россия была и будет (так ему хотелось верить) ареной битвы за мировое господство. Мировой капитал всегда стремился прибрать ее к рукам. Захотелось России стать Европой – вступи в войну с Германией. Со своей недавней союзницей. Германия всегда благоволила к Латвии. Среди множества немцев, проживавших в Курляндии, всегда были те, кому выгоден был союз с империей.
— Так, товарищ Крыжов. Он же товарищ Быстрый, — мягко, в шутливой форме прервал его помощник председателя коллегии ВЧК. – Ваши суть да дело мне ясны. Вы на правильном пути. Мы не ошибемся, если доверим вам одну серьезную «платформу». Вы не ослышались. Как следует из ваших слов и из вашего дела, товарищ будущий революционер проработал с марта 1913 года по июль 1914 года помощником кочегара на Московской железной дороге. Кроме того, господин хороший… — товарищ помпред язвительно улыбнулся, поморщив правую щеку. Большие, голубые глаза его потемнели. Сделались окончательно непроницаемыми для посторонней публики. – Вы у нас, в старорежимном прошлом, в студентах успели пробыть. Целых два курса отучились в Санкт-Петербургском университете, на филологическом факультете. Неплохо владеете языком Робеспьера, Дантона и Марата. Не мне вам, надеюсь, объяснять, кто были эти славные товарищи… Гм-гм… Так вот, ближе к делу, как сказал Мопассан, которого вы изучали, будучи студиозусом. На юге России сейчас разворачиваются великие и страшные события. Нам нужна ваша помощь, дорогой товарищ…
* * *
Когда Седельников приехал на перекладных в неуютный и серый от дыма (сжигали кучи застарелого мусора и листвы) Севастополь, все, казалось, было кончено. Ничего хорошего не оставалось и в помине. В его молодой, неокрепшей еще от дыма и пожарищ душе. Земля РУССКАЯ полыхала ужасной бедой, имя которой было страшно, как ангел смерти. В гражданской войне, свидетелем которой становился молодой студент, совсем еще юный мальчик, не было слепящей поэтики, что в романе Войнич «Овод». Это было кровавое, грязное зрелище, в котором – как в плохом театре – горели и сокрушались самые неожиданные, нелепо скроенные декорации. Сиротливо жался к грязной, обшарпанной стене прохожий-обыватель. Пропускал мимо себя патруль. Будь это балтийские матросы в развевающихся клещах, в горящих золотом, лихо заломленных блинах-шапочках с ленточками. Либо суровых бородачей-солдат в мерлушковых папахах с красной ленточкой наискосок. Или с огромной пятиконечной (сатанинской, как говаривали священники) звездой на суконном шлеме-богатырке. Сталкиваясь вознесенными кверху, воронеными штыками, эти люди своей жесткой усталостью или мрачным задором наводили ужас на вчерашних и нынешних «бывших». Спекулянты и ворюги, проститутки и мокрушники страшно боялись этой мерной поступи. Кидались в распахнутые подворотни. Особенно, когда отчетливо запахло чрезвычайкой с ее крайне решительными мерами по пресечению беспорядков. Мародерства, уголовного элемента, шкурничества и всякой прочей контры.
…Из дула вороненого, синевато-белесого от холода нагана вылетел огонек. Бледная, почти желтая вспышка. Человека, стоявшего перед сомкнутым строем людей в темной коже, точно переломило пополам. Задыхаясь от подступившей к груди, жестокой боли (после страшного удара в грудь), он стал медленно падать. Второй, более сильный и страшный удар после второго выстрела, окончательно свалил это тело. Взмахнув руками, человек сполз на самое дно. Яма оказалась неглубокой. Мертвые и умирающие тела неуклюже валились друг на друга. Точно мешки с песком… Когда все закончилось, старший уполномоченный из наряда ВЧК, высокий и красивый парень с коричневой, бархатистой родинкой на левой щеке, смущенно буркнул: «Ну вот, товарищи. И мы внесли свой вклад в дело мировой революции. Убавилось на белом свете буржуев-то…» Ему вторили веселым, бесшабашным смехом. Многие из чекистов продрогли. С утра ребят нагнал губчекист Петухов-Ильинский. Слишком много накопилось контры в предварительных камерах. Тех, кто попался под скорую руку в коже, спешно допрашивали. Решили использовать по назначению, в качестве военспецов. Что ни говори, но бывшие, хоть и буржуи все, но образованнейший народец… Часть (человек сорок, из бывших золотопогонников), не оказавших содействие новой рабоче-крестьянской, приговорили «пустить в расход». Проще говоря, поставить к стенке, ликвидировать, расстрелять…
Седельников, подняв воротник коричневого драпового пальто, спрыгнул с подножки зеленого «третьеклассного» вагона с выбитыми стеклами и пулевыми отверстиями. Севастополь был его последним прибежищем и пристанищем. Все-таки он бывший студент Санкт-Петербургского университета, окончил полный курс филолога. Бывший вольноопределяющийся, дослужившийся до прапорщика на Юго-Западном фронте. Кавалер креста Святого Георгия (Победоносца) на черно-оранжевой ленточке не был уверен, что Севастополь-Крым примут его с распростертыми объятиями. Мало ли кто едет в последнее пристанище белых сил Юга России? Могут, конечно, после долгих подозрений и подробнейших расспросов взять на статскую должность. С окладом «пятнадцать рублёв» или продуктовым пайком. Если сильно повезет, разумеется… Если повезет еще сильней — после долгой, тщательной проверки (вроде той, что была устроена в контрразведывательном отделе станции) могут взять на службу в ударные добровольческие части. Впрочем, если дадут ему под ружье отмобилизованных в солдатики крестьян или конторских служащих, то он не побрезгует. Другое дело, что контрразведывательным отделом отмечен его переход из Совдепии в белый, все еще мятежный для большевистской России полуостров Крым. Усатый штабс-капитан с вытертым золотом погон, укутанный по самую фуражку в рыжий верблюжий башлык, тщательно изучил его подпись на «пачпорте». Столь же усердно сверил ее с остальными «офтографами». Особенно насторожила его совершенно натуральная подпись на объяснительном листке (со штампом контрразведки) и найденные у него письма и дневники. Да-с, почерк, батенька, почерк у вас…
— Красные, милостивый государь, давно внедряют к нам своих агентов. Но мы крепко засели в Крыму, — задумчиво молвил он, визируя пропуск на въезд. – Никому нас отсюда не выкурить, молодой человек. Да-с, милостивый государь. Так вот, о чем это, бишь, я говорил? Вы умный и интеллигентный юноша. Согласно старому, моему видению, сохранившемуся со времен III-го отделения, по нашему департаменту не числились. С чинами старой охранки, как я погляжу, знакомы лишь по книжкам. Да-с, по глупым книжкам. И листовкам, что разбрасывались по кустам из-за заборов на рабочих окраинах. Сатрапы, палачи… Да-с, сатрапы! Сатрапы мы и есть, милостивый государь! Но… Для кого мы были сатрапы? Для озверевшей солдатни, что сожгла в Бахчисарае мой дом и разграбила имущество моей семьи? Да-с… Все это печально, очень печально, молодой человек. Вскоре увидим, что из всего этого будет…
Ни слова ни говоря, он протянул, совершив некое, невероятно путаное движение, Седельникову все его документы. Любезно попросил проследовать на перрон. В довершении к своей любезности штабс-капитан проводил юношу до перрона сам. Зайдя в станционный буфет (для господ офицеров), вынес ему «на дорогу» круглый, хорошо пропеченный калач ржаного помола и шмат сала в тряпице. Все это он спешно сунул в карман окончательно оробевшего юноши.
— Угощайтесь, молодой человек. Будет о чем вспомнить в пути. И мне, и вам… — на прощание сказал он, подмигнув загадочно кому-то в пространство…
Через час Седельников сидел на грубо сколоченной скамье в купе вагона 3-его класса. Его окружало общество незнакомых ему беженцев. Разномастная и разношерстая публика. С мешками, узлами, баулами и чемоданами. Все это было набито первой же попавшейся утварью. Кто-то «тащил» в чемодане (затертом до дыр) связки крупных, шпатовых гвоздей, которые ежеминутно звенели об пол. У кого-то в бауле мяукала кошка с котятами. Глупая, толстая баба в богато расшитом рушнике, с монистами (не взяли-таки махновцы) везла в плетеной корзине тощего гуся с замотанными лапами. Гусь все жалобно причитал. Баба вскрикивала: «Не боись, не боись, Лицко! Я тебя не зарежкаю…»
Проехали Армяново, где была станция-перегон. Поезд, выпустив пышную струю белого пара, загремел сцепами и буферами по железному мосту через Сиваш. Тук-тук, тук-тук… На песчаных берегах происходило рытьё траншей. Строились доты. На больших палках разматывали мотки колючей проволоки, закрепляя гвоздями на расставленных кольях. Здесь готовились встречать красных. Смертным боем.
…Какие трогательные люди, в который раз думал чистенький и опрятный Седельников. Какое добро, какой вселенский гуманизм сохранили они в себе. Несмотря на этот жестокий и безжалостный. Воистину железный век. «Когда царей корона упадет…» Да, совершенно прав был Михаил Юрьевич Лермонтов. Великий русский поэт. Второе СОЛНЦЕ нашей Великой русской литературы… Даже в сроках он не ошибся. Однако не прислушались к его словам многие беспечные потомки. Возомнили себя умными, самыми прозорливыми. «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа…» Вот она, правда! Вот она, праведная мысль! А мы все думали, а мы все ждали. Дождались-таки, на свою голову…
Он поймал извозчика на старом тарантасе с драным кожаным верхом (странно, что не порезали на подметки), который довез его за «николаевку» до комендатуры. По пути он не без удовлетворения отмечал безукоризненный порядок: патрули с приткнутыми штыками, проверявшие документы у всех подозрительных, минимум офицеров и юнкеров с дамами (и барышнями) на проспектах. Полное отсутствие во всех публичных (то бишь общественных) местах праздно шатающейся молодежи призывного возраста в шелковых косоворотках, костюмах тройках и сапогах с лакированными голенищами. Главнокомандующий белыми силами Юга России генерал барон Врангель предпринял весьма жесткие карательные акции. Порядок был наведен расстрелами и виселицей. (Один «столыпинский галстук» он заметил на Нахимовском переулке. Кто-то, с босыми, пожелтевшими ступнями в одном исподнем белье болтался туго стянутый петлей. С головой, что была покрыта мешковиной. На груди у висельника покачивалась дощечка с четкой надписью: «Воръ, казнокрадъ».) Публичные расстрелы солдат и офицеров, провинившихся в мародерстве, неподчинении приказам, пьянстве стали обыденным явлением для острова Крым. Пачками расстреливали уголовников, содержателей притонов и прочую сомнительную публику. В сети контрразведки, правда, попадала мелкая рыбешка. Крупные дельцы, как всегда, ускользали из сетей, так как изначально были задействованы как агенты или осведомители.
…Крыжов не помнил себя и своих ног, когда пулей вылетел от товарища помпреда коллегии ВЧК. Верно говорят опытные люди, прожившие (но не отжившие!) свой век: живи да крепись – твое время тебя найдет. Необходимо только искусственно не ускорять этот век. Дабы не обратить эту Жизнь ВЕЧНУЮ в ничто. Вместо ожидаемого тобой, долгожданного нечто. Будь сам с собой чист и откровенен. Это необходимо для достижения всех поставленных тобой жизненных задач и оперативных целей в чекистской работе…»
Сойдя на площади с архаическими пушками времен осады XIX века, перед дворцом с трехцветным флагом и часовыми, Крыжов уловил взглядом остановившуюся поодаль пролетку. Из нее соскочил неприметный юркий человек в железнодорожной шинели и фуражке с малиновым верхом. Для «молоточника» не будет ли жирно, подумал он. Неприятное чувство вновь посетило его. Крыжов припомнил штабс-капитана, который подмигнул в пространство. Как он раньше не допер… За ним от самого железнодорожного переезда установлена слежка. Плохо, батенька, отшень плехо, усмехнулся он, копируя одного пленного австрияка. Под Карпатами попался им один фельдфебель-мадьяр. Вот смеху-то было на позициях…
* * *
Выписка из служебного рапорта помощника коменданта французского гарнизона в Севастополе (Юг России, Остров Крым) во 2-ой отдел генерального штаба Французской Республики.
«…Из рапорта командира патруля военной жандармерии также следует, что агент наружного наблюдения «Кюре» сопровождал полковника Седана до Спасского переулка. Там его внимание привлекла одиноко стоявшая возле дома № 7 женщина, своим видом походившая на проститутку. Агент Кюре докладывал, что ясно видел, как полковник вошел в дом по ее предложению. Однако, согласно результатам наружного наблюдения двух сменивших его агентов (их псевдонимы и подлинные данные будут предоставлены) означенный полковник Седан так и не вышел из указанного здания. Произведенный утром по моему личному приказу осмотр всех помещений не дал никаких положительных результатов. Содержатели притона, его охрана и проститутки, будучи подвергнуты самому тщательному допросу, заявили, что данный господин (им была показана фотография мосье Седана) с нашивками 145-ого полка в форме полковника французской пехоты…»
Из докладной записки старшего оперуполномоченного ВЧК при коллегии ВЧК на Южном фронте.
«…В результате успешных оперативных мероприятий со стороны агента-нелегала (оперативный псевдоним «товарищ Быстрый») была проведена вербовка командира 145-ого пехотного полка французских оккупационных войск…»
* * *
«…Вы будете нелегально доставлены на остров Крым. Я имею в виду, дорогой товарищ, посуху и по рельсам. Я имею в виду вашу легенду. Для того чтобы наполнить ее приличествующим содержанием, необходимо на какое-то время привлечь вас в качестве помощника машиниста или кочегаром Московской железной дороги. Освойтесь на одной из «овечек», где вас примет наш опытный нелегал-курьер. Там вас введут в курс дела. Вы приступите к выполнению вашего ответственного задания…» — прозвучало у него в голове от удара об мостовую. Его едва не сшиб до смерти всадник на вороном жеребце, с кованой серебром уздечкой. На черном полушубке были мягкие полевые погоны с генеральским зигзагом. Лицо под фуражкой было разгоряченным, злым. Оно также не лишено было приятности. Сопровождавшая генерала полусотня казаков из Кубанского корпуса тревожно гарцевала, звеня подковами. Из мостовой, топтаной и перехоженной, летели искры.
— Милостивый государь, вы изволите так неосторожно ходить потому что пьяны? – усмехнулся молодцеватый генерал. Он потрепал пальцем в перчатке свой русый ус, подстриженный коротко, на «аглицкий манер». – Еропка! Живо помоги ему встать! И водки ему дай. Пусть отойдет… Да не так, бестия! Как телку матка – не давай, кому говорят! Лей насильно, чего уж там…
Его насильно подняли. Упомянутый Еропка (не к ночи будет!) раз встряхнул его. Вся хворь сразу же выветрилась. Как будто и не было ее вовсе. В глаза ему смотрела лошадиная морда, жующая желтыми зубами медный мундштук удилища. В лицо летели комья вонючей слюны. Голова кружилась от запахов конюшен и бивуаков. Эскадрон продолжал пританцовывать, готовясь дать шенкеля по первой же команде молодцеватого генерала. Когда… Появилась она. Настоящая амазонка средь скифских гор и равнин, неровных каменистых дорог и чахлой растительности Юга России – полуострова Крым.
— Mi General! – внезапно раздался очаровательный женский голос. – Кто тут обижает бедного несчастного юношу, Серж? Или требуется мое, женское вмешательство?
Оборотясь, Крыжов к своему удивлению узрел совершенного ангела. На серой в яблоках тонконогой кобыле с вьющейся (по-кавалергадски) гривой сидела в седле-амазонке молодая женщина удивительной красоты. Длинные, как воронье крыло, волосы ниспадали на красивые, полукруглые плечи. Черные стрельчатые брови покрывали глаза изумрудного отлива. Прямой, греческий нос оттеняли тонкого выреза ноздри, походившие на размах крыльев Жар-птицы. На ней была серебристого меха бекеша без знаков различия, кавалерийские рейтузы, подшитые кожей и высокие кавалерийские же сапоги со звонкими штаб-офицерскими шпорами.
Казаки переглянулись и зардели от смущения. Еропка отпустил ворот Крыжова. (Часть воротника при этом с треском повторила судьбу «заячьего тулупчика» в известном произведении А.С. Пушкина.) Выхватив из облупленных ножен блескучую шашку – эх, верно немало красных голов было ею срублено! – он, умело отсалютовав, положил ее на левое плечо. Косматая бородища раздвинулась в умилении:
— Свет наш, Настасья Филипповна! От ударного эскадрона 1-го Кубанского вам – гип-гип, ура!
— Гип-гип, ура! – вторила ему вся полусотня.
Вся узкая, мощеная в XVIII веке улочка наполнилась лязгом выхватываемых сабель и их зеркальным блеском.
— Браво, господа казаки! – засмеялся Серж. – Я… точнее, их высоко превосходительство генерал-лейтенант от кавалерии Слащен вами доволен. Жалую каждому по рублю из полковой казны. Да по чарке водки. Вахмистр!
— Я, ваше высокопревосходительство! – Еропкина грудь стала подобием колеса. Среди газырей на бешмете обозначились георгиевские ленточки и георгиевские кресты.
— Так и передать сотнику…
Серж Слащен, легендарный генерал Слащен, палач и вешатель «черного барона», загубивший сотни пролетариев, легко соскочил с седла. Будто не сидел на нем вовсе. Потрепав своего вороного жеребца, он подошел к Крыжову. Тот сжался. Это человек был объектом и целью его задания. Товарищ Петер ясно проинструктировал его: ярого врага Советской власти, изверга и губителя трудового народа – ликвидировать во что бы то ни стало. Любой ценой. Даже…
— Ну-с, милостивый государь-господарь! Я вам завидую, — усмехнулся «объект». – Про мою персону в Крыму больше молчат . Но ежели говорят… Утверждают, что мимо меня не проскользнешь. Как в одной большевистской песенке поется: «…Яблочко, куды ты котишьси? В губчека попадешь, не воротишьси…»
Казаки дружно рассмеялись.
— Но все это ложь, сударь мой. Генерал Слащен воевал с 14-го. Ходил в атаки. А виселицы в тылу… Что ж, на все Божья воля, — Слащен строго посмотрел в небо. – Ему, творцу небу и земли, виднее. Как вы считаете, сударь мой?
— Седельников Павел Алексеевич! – звонко отрапортовал Крыжову. Его каблуки сами собой сдвинулись. – Бывший прапорщик Казанского полка. Воевал в 14-ом, как и ваше высокопревосходительство на Юго-Западном фронте. В 1916-ом был ранен. После излечения переведен на Западный фронт…
Кто-то из казаков присвистнул. Еропка с вынутой саблей застыл как каменное изваяние.
— Вот как, сударь мой! Да мы с вами в одних краях воевали и одним лаптем щи хлебали, — Слащен буравил его из-под козырька фуражки ясно-синими, с расширенным зрачком глазами. — Как дальше? Припомните?
Крыжов ради приличия промолчал. Затянул паузу подольше.
— Все понятно… Еропка! Руби ему башку, б… сыну, долой.
— …одним пальцем вшей давили, в одном чугунке воду кипятили, одну картоху на двоих делили… — как ни в чем не бывало проговорил Крыжов. — Одну мамзель к генералу водили. Ибо…
— …честь моя верная, дщерь примерная, прибудь со мной отныне и во веки веков, — Слащен убрал леденящий душу холод из глаз. – Истинно верую в Тебя, Господи. Аминь…
— Прошу вас, прапорщик, — это была дама-амазонка с изумрудными глазами. Она, перенеся ногу через луку седла, легко соскочила на булыжник. Звякнули мелодично штаб-офицерские шпоры. – Моя Амазонка к вашим услугам.
Так Крыжов, он же «Седельников» (согласно чекистской легенде), обрёл свою покровительницу. Она не сразу открылась ему. Но когда это произошло, у него появилось смутное ощущение: Настасья Филипповна не такая, какая е с т ь. Она давно уже разочаровалась в белом движении и белой идее. Слащен по её протекции пристроил его помощником шифровальщика в штаб 1-го Кубанского корпуса. Понятное дело, что его проверял особый (контрразведывательный) отдел. До того, как к о н т р о л ь не пройден, нечего было даже заикаться о строевой службе. На Юшуньском плацдарме и Перекопе шли инженерные работы. Укреплялся турецкий вал, что казался надёжным барьером меж Совдепией и белым пока ещё Крымом.
Крыжову пару раз подсунули ложные шифрограммы, которые он должен был отправить по аппарату «Бодо». Намеренно ослабляли внимание – давали возможность скопировать их содержание. Но он ни разу не поддался на провокации. По городу за ним неотступно следовал «хвост». Либо миловидная барышня в шляпке и в жакете, либо оборвыш-пацан, гнусивший на папиросы или свои песни, либо заправской пролетарий в кепочке. Как-то раз михрюткой оказался благообразного вида господин «под Чехова». Но чекист и виду не подавал.
В конце-концов Слащен (через Еропку) вызвал его к себе в кабинет. В распахнутом на груди френче британского покроя, с огромными накладными карманами, с колодкой георгиевских крестов и рубиновой «клюквой» (Анной 3-й степени) на воротнике, он предложил ему опрокинуть чарку на брудершафт. Когда опрокинули, то Серж, глядя на прохожих, санитарные двуколки и обозные фуры на Севастопольской набережной, что вырисовывались в окне адвокатского особняка, отчётливо сказал:
— Товарищ чекист! Играете вы, конечно, здорово. Но от этого ваша игра, милостивый государь, только ясней. Она мне на руку. Одним словом, буду откровенен: мне обрыла эта дурацкая война со своим народом. Третий год! Конца и краю не видать, а туда же – дойдём до первопрестольной! Выстрелим прахом большевистских вождей из Царь-пушки! Merd! Фантасмагория! Я не играю в дешёвом балагане, хотя игрок, признаюсь, отменный. Не верите?
— Отчего ж? – Крыжов сыграл в невинность, памятуя, как едва не проиграл генералу половину жалования намедни.
— Вот и славно! Совдепии, я слышал, требуются дельные генералы. Что б укрощать норов господ добровольцев, — криво усмехнулся сквозь зубы Слащен. – Согласен! Не надо никаких слов. Тем более – клятвенных заверений, — он сделал предостерегающее движение рукой с обручальным кольцом. Супруга генерала скончалась от тифа по пути бесславного отступления Добровольческой армии через Тамань. – Ибо сказано нашим Спасителем: не клянитесь ни небом, ни землёй, ни образом Бога нашего! Не сотворите себе кумира. Просто слушайте. Делайте выводы. И действуйте. Имейте ввиду, — на этот раз генерал говорил вполне серьезно, — «хвоста» за вами теперь нет. Я распорядился убрать. Ротмистр Чичигин, из жандармов. Он вам по-прежнему не верит. Но меня слушает и боится. Меня здесь все слушают. И все боятся, — он улыбнулся так, что Крыжову на мгновение стало жутко. – Так и скажите своим.
— Допустим… но только допустим, что я это я, — философски изрёк Крыжов. – Вам от этого какая выгода?
— Вы или плохо слушали, или просто издеваетесь, — с холодной любезностью отвечал Серж.
— Ни то, ни другое, — спокойно парировал чекист. Картонные планки погон (золотой басон кончился, а защитные мягкие «по-британски» офицеры не любили) показались ему неимоверно тяжки. – В толк не возьму, ваше превосходительство: потомственный дворянин, полный кавалер Георгиевского креста, выпускник академии генерального штаба его величества покойного государя-императора. И такой пассаж: служить верой и правдой Совдепии! Содом и Гоморра…
Слащен захохотал. Он дружески толкнул Крыжова в плечо.
— Содом и Гоморра, говорите? В этом что-то есть…Что-то библейское. Апокалипсическое… — он достал из дубового письменного стола бумажный пакет с белым порошком. Шумно потянул кокаин в нос. – Что-то есть…
— Не стоит губить себя! – неожиданно сказал Крыжов. Он сделал шаг вперёд. Выхватил из рук Слащена бумажку. Скомкал и выбросил в мусорное ведро с витыми бронзовыми ручками. — И там, и здесь есть немало любителей дурного зелья. И там, и здесь это помогает забыться. Творить чёрные дела с ощущением «отпущенной совести». Но это – лживое ощущение!
— Вот как! – Слащен подавил желание отхлестать его по щекам. – Что же там? Также расстреливают под э т о? Так же вешают? Так же пытают?
— Да и ещё раз да! Поэтому т а м вы нужнее, чем здесь. Со своим умом. Со своей честью офицера и патриота Отечества, — произнёс Крыжов, не слыша своих слов. — Я сам расстреливал. Но с тех пор произошло так много, что душа моя изменилась, — он, окрылённый образом старца Зосимы, начал свою духовную исповедь генералу: — Я встретил его. Я покаялся. Я встал на путь в е ч н о г о искупления. Не через идолопоклонство и коленопреклонение. Нет!
— О, да! – Слащен, мечтательно заведя глаза, что м ё р т в о расширились от дурман-зелья, прошёлся по персидскому ковру. — «Оставь надежду всяк сюда входящий!» Помните, Данте Ольгиери? Однако этот веронец прошёл круги ада. Вышел в чистилище, а затем… О, это несбыточное «затем»! Иногда, прапорщик, мне кажется: лучше бы Бог не открыл через Спасителя нам Благую Весть о спасении! О том, что «по делам вашим да воздастся вам»! О том, что «не думай сегодня о завтрашнем дне… итак, довольно с каждого дня своей заботы»! Прапорщик! Павел Алексеевич! – он неожиданно зарыдал. – Я знаю, что е с м ь ад! Каждый из нас о б р е ч ё н на спасение! На примирение с Богом! В этом – притча о заблудшем сыне! Это про нас! О, Боже… Как я устал, смертельно устал…
Часть первая. Германия, конец 30-ых…
ГЛАВА ВТОРАЯ. Отступление.
«Золотой петушок», русский балет. Прекрасные танцы и народные песни. Песня о Волге.
Иозеф Геббельс. 14 сентября 1927 год.
…Я понимаю: осторожность осторожности – рознь. Многое, что на обыденном уровне зовется тайной мироздания, вселенскими загадками и прочими мудреными терминами, на деле оказалось «проще пареной репы». Так сказал мой русский коллега, старший оперуполномоченный иностранного отдела ОГПУ. Все, оказывается, происходит на старом, привычном уровне – уровне мыслительной или ментальной деятельности. (Черт! Ну и словечко, господа европейцы, вы завезли из Тибет – «как аукнется, так и откликнется», как говаривают в таких случаях те же русские-советские…) Мысль это – строительный материал всего Мироздания. Так это, теперь, следует понимать и воспринимать. На том же уровне, только в новой проекции. В новом преломлении уровня мысленно-ментальной деятельности. В спин-атоме, а также…
А что тут удивительного? Удивляться тут нечему и не к чему, судари мои…Вон, вчера как распоясались: вместе с наци проводили общий митинг на Александерплатц, а затем у Брандербургских ворот. Факелами (благо, что людей было предостаточно, факелов – тоже) чуть не подожгли вековые липы на, аллеях, что раскинулись по всей Унтер дер Линден. (Точно по Невскому гулял: в бледном свете белых ночей серебрится свинцовая вода, звенящая о гранит набережной. Варенька, такая красивая, такая молодая – принявшая «врага Отечества» и «революционного народа», пленного германца. Призванного в ряды рейхсвера в 1914-ом…) Тогда нам здорово досталось от полиции…
…Шуцман здорово огрел его по спине «жезлом порядка», когда Эзерлинг попробовал сунуть ему под нос служебную карточку . Португалия считалась дружественной страной, так приютила многих национал-социалистов. Если в местном бюро НСДАП его принимали как друга, то полиция относилась к его аккредитации (газета «Либерасьон») с неподобающим подозрением. Его уже дважды задерживали и отправляли в Revir. По поводу или без повода. Во время массовых мероприятий, как правило, по обвинению в неподчинении слугам закона. «…Вы сбили шлем с головы полицейского, — закатывая глаза, разглагольствовал дознаватель берлинской полиции Иосиф Крешер. – Это уже факт беззакония, герр Де Багера. Вы же этнический германец! Стыдно…» Ему было тщетно объяснять, что в сваре, когда шеренга полицейских с того ни с сего обрушила дубинки на митингующих, было не разобрать кто кого и за что. Вызов адвоката был также не уместен. После вторичного требования его заперли на трое суток в одиночку. Когда он не сломался, подсадили к нему верзилу-альбиноса, который оказался не то умственно неполноценным, не то педерастом. Ночью Эзерлинг проснулся от характерного запаха и мокроты: подсаженный мочился на него. Пришлось вспомнить тренировки по боксу. С двух ударов (прямого хука и короткого свинга) он уложил мерзавца. Затем железная дверь с решетчатым окошком распахнулась. В камеру ворвался дежурный надзиратель со сворой помощников. У всех в руках были дубинки. Дальше Эзерлингу (он же Августо Де Багера) вспоминать не хотелось…
… Мы все когда-то были строителями тончайших частиц, из которых потом сами же создавались грандиозные, плотные и осязаемые миры. Бог и ЕГО Замысел – вот, что вечно в нашей жизни. Вот, что вечно на многомильных просторах Вселенной. И главное что этот Бог – не слеп, если не слепы мы. Когда видишь мир и тобой содеянное через призму духовного зрения. Ты не удален от действительности. О, нет… Ты, напротив, стремительно приближаешься к ней. Жить в мире вещей – не значит, что ты проник в суть всех вещей. Или хотя бы в мир одной-единственной, пусть даже незначительной (с виду!), малой вещички! Не надо спешить думать о своем всезнании: его не было и никогда не будет. Из неуверенности своей можно сделать огромные выгоды, полагаясь на их законченное целое. Все равно, что на истину в последней инстанции. Точно также преступно думать, что «строительный материал», из которого создали Вселенную это – нечто неодушевленное. Иными словами, мертвое вещество. «…Лишенное тенденции внутреннего смысла и присущей ему тенденции саморазвития, которая, как самостоятельная единица состояния макроразвития, включает в себя самостоятельные единицы теперь уже микросостояний – тенденции строительства и саморазрушения…»
На Фридрихштрассе его чуть не окатил водицей пронесшийся мимо грузовик «Опель» с прицепом. В нем тесными рядами сидели молодцы в коричневом, с изображением символа солнцевращения на повязках. Они кричали «Хайль! Единый народ, единый фюрер, единая нация!» В стороны летели кипы листовок. Шуцман с болтающейся на ремешке дубинкой, в надвинутом на лоб «шако» (суконный шлем с двумя козырьками), воровато оглянувшись, поднял одну из них с тротуара.. Отер с нее землю, сунул за борт шинели. Мерзавец… Где-то я видел твою паскудную рожу. Не иначе как на Александерплатц. Когда сбили с ног Вебера, молодого коммуниста, и принялись топтать коваными сапожищами.
За углом он увидел массу битого стекла. Здесь была лавка Соломона Менцеля. Типичный еврей . К тому же ортодокс. Носит пейсы и черную шапочку. Была лавка, а теперь нет. Его заранее предупредили: будет «хрустальная ночь», наш милый еврей. Штурмовики намалевали ему масленой краской звезду Давида. Прямо на витрине. Когда Менцель не понял, ночью нанесли визит.
— Нам здесь делать нечего, — сказал длинный тощий человек в фетровой шляпе. Он стоял, прислонившись к капоту легковой DKV с номерами криппо. – Хозяин не будет писать заявление. Слышал, Ганц?
— Еще бы! – хохотнуло из кабины. Наружу выползло прыщавое широкое лицо с широко расставленными, голубыми «зенками», говоря по-русски. – Скоро переизберут полицай-президента. Уверен, что им будет Геббельс или … этот… солидный господин в кожаном пальто. Бывший военный летчик с прусской фамилией! Ты назвал его «дер Дике»…
— Ага! Жирный боров! — засмеялся старший из наряда криппо. – Боевой офицер, прошел всю Великую войну. Конечно, это будет он. Некому больше, дружище. Все захватили поганые евреи и иностранцы. Из Берлина скоро сделают проходной двор.
— Все-таки жаль, если Менцеля совсем прикроют, — посетовал Ганц. – У него всегда свежие овощи. И рахат-лукум. Его так хвалит мой сынишка…
Да, у Германа Геринга есть все основания стать полицай-президентом Берлина. Он как-то брал интервью у этого мужественного человека. Тот горячо и долго вещал о милой Германии. «…Наш народ, милый друг, угнетают и капиталисты, и коммунисты, — полное, красивое лицо пруссака с тонким носом аристократа наливалось кровью. – Последним я верю больше. Они хотя бы обещают германцам равенство. Буржуазии нельзя верить ни на йоту. Они обанкротились, когда мы сидели в окопах. Они предатели! Тысячи фронтовиков, нюхавших порох, вынуждены перебиваться с хлеба на кофе, пока эти ублюдки купаются в роскоши! Принимают золотые ванны, катаются на роскошных автомобилях, пользуют шикарных проституток. Они предали Великую Германию». О евреях герр Геринг выразился тоньше: «Да, не легко теперь будет жить евреям в Германии. Не легко…»
Эзерлинг завернул на Унтер дер Линден. Миновав липовую аллею, подошел к величественному зданию Берлинского университета. Здесь случится в 35-м факельное шествие. Выстроившись в форме гигантской свастики, штурмовики превратили ее центр в костер для сожжения писателей-неарийцев. Томас Ман, Лион Фейхтвангер, Стефан Цвейг…
— У вас можно занять пару пфеннигов? – обратился к нему неряшливый бродяга. Его шея была обмотана грязным полотенцем. – Мой добрый господин, пожалейте истинного германца. Я воевал, был контужен под Верденом. Под Соммой, когда на наши окопы перли английские «малышки» с металлическими лентами вместо колес, мне довелось видеться с ним, — бродяга кивнул на плакат, где был запечатлен Адольф Гитлер.
— Разве фюрер был под Соммой? – удивлению Эзерлинга не было предела.
— Ты что не веришь, ублюдок? — это сказал уже другой человек. Он вышел из-за колонны. Спрыгнул с портала, засучил рукава. – Тебе зубы пересчитать, бешенная сволочь?
— У меня слишком много зубов, — задумчиво молвил Эзерлинг. – Они тебе не по зубам…
…Меня этим не испугаешь. На войне и не такое видал. В руках у Эзерлинга –Де Багера оказался «Стеур», который он снял с предохранителя. Направил в живот неряшливому бродяге. Тот затрясся как в параличе. Ничего, подумал Эзерлинг. На войне и не такое видал. Этому сопляку и в гробу не приснится, что я видел на линии огня. (…Опять я что-то сдал. Выпускаю точно болото свои «вредные испарения». Те самые вредные эмоции, за которые цепляются те силы, в пространстве и во времени, которым выгодно меня поймать. «Ущучить», как говорят мои русские друзья. ) Я видел лица врагов под стальными шлемами, их яростно разинутые глаза и рты, набитые землей. Они грызли и глотали эту землю. Стремились хоть как-то утолить голод смерти. Видел трупы врагов и товарищей по братской бойне. Они висели как тюки на колючей проволоке, заросли которой окутали поля Европы. Разделив народы на два непримиримых лагеря — «свой» и «чужой». Чего я только не видел…
Дождавшись, когда они убегут, он двинулся дальше. Внезапно ему пришла в голову неотвратная мысль. В сознании всплыл образ старшего следователя берлинской полиции Иосифа Крешера. Еврей… Штурмовики громят магазины и квартиры его соплеменников, а ему… «хоть бы хны». Так говорят те же русские.
…Да, трудно что-либо назвать неодушевленным в этом многообразном, созданном по образу и подобию Всевышнего мире. В нем все изначально одушевлено и упорядоченно. Все имеет свою душу. Индивидуально-общественную и общую. Единую для всех нас душу. Душу Вселенной. Душу Мироздания. Душу Единого Бога Живого. Так сказал этот русский старик. О, нет! Старец, в доверительной беседе со мной… Спин-атом или Синергия. Это человек и то, что принято называть земным человечеством. Одномоментность и одноментальность, разбросанная по различным фрагментам Единой Памяти. В пространствах-моментах жизни. По различным минутным и часовым отрезкам одномоментной действительности. В различных вариациях пространства и времени. В них никто из нас не в состоянии усомниться. Только спокойно рассуждать: что может быть с нами в тот момент, когда мы встретимся со всеми моментами нашей жизни. Воплотимся в ткань времен. Во все. Что же будет дальше?
Надо будет снова подвести Вебера к мысли о создании единого фронта сил. Коммунистов и национал-социалистов. Так думал он, так как приближался к конечной цели своего маршрута. Возле величественной арки Брандербургских ворот, воздвигнутой в честь воссоединения германских земель и победы над Францией в 1877-88 годах, расположилось уютное кафе «У Густава». Рядом с магазином под золотисто-коричневой вывеской (под цвет мундиров СА). «Дамы и господа! Цейсовская оптика для всех. Герр Линдерманн желает вам приятной и дешевой покупки». Там же, в полуподвальном помещении расположилось военно-спортивное общество НСДАП «Сила через радость». При нем, естественно, маленькая пивная. Вот она, кстати… Он поздоровался кивком головы с хозяином с закатанными рукавами, с усами o-la Вильгельм (потерял ногу под Шампанью, ковылял на деревянном обрубке, проклиная лягушатников), почесал за ухом, обходя двух плечистых молодцев в кожанках поверх коричневых рубах. В глаза ему бросился громкий лозунг на красно-белой ленте кайзеровского рейхсвера: «Германцы! Только в единстве идеи рейха мы обретем успешное продвижение всех наших начинаний!» Ох уж, эти идеи, ох уж, эти начинания…
Он дернул вычурную дверцу с остеклением. С замирающим сердцем спустился по ковровым ступенькам прямо в зал. Звучал Гогенцолерновский марш. На голых кирпичных стенах висели в золотом багете картины. Фридрих Великий, Бисмарк фон Шенхаус, Кайзер Вильгельм… Среди клубов удушливого табачного дыма (курили все, включая дешевые сигареты «Каро», от которых чесалось за ушами), застлавшим маленькие столики с высокими фарфоровыми кружками с жестяными бирками и замками на крышках, сидели знакомые и незнакомые ему лица. Сидел…
Он хлопнул «Эльзасца» по плечу. Присел рядом с ним. Главное было вовремя перехватить тяжелую, крахмаленную салфетку с вензелем старой прусской династии. Она лежала напротив. Рука сама потянулась к ней. И… Салфетка тут же улетучилась в его воображении. Исчезнув со стола, она обосновалась в боковом кармане костюма. «Эльзасец» улыбнулся. «…Мне кажется, что сегодняшнее мероприятие удается на славу. Вы не находите, дружище?» Эзерлинг находил. Ему приходилось бывать на собраниях еще более крупных, чем это. Поэтому было с чем сравнивать и из чего выбирать.
— Вот зараза этот Густав. Пиво как разбавлял так и разбавляет соленой водой. Что б ему горло эта соль проела…
— Не стоит так о Густаве. Крембель! Он прошел Великую войну. Потерял левую ногу.
— Плевать мне на его ногу! На левую и на правую. Германец, если он истинный, без жидовской и негритянской крови…
— Друзья! Дались вам эти евреи. Вот я состою в «Форейне». Для нас нет разницы чей магазин: еврейский или германский. Мы готовы уделать любой. Долой частный капитал! Долой монополии на фабрики, заводы и землю! Как в России! Все должно принадлежать простому народу. Простым работягам-германцам. Хох! Я слышу, как они рукоплещут нам…
— Пусть так, друзья. Но не следует забывать о Всевышнем Боге.
…Впрочем, все это будет только при одном условии – если мы этого сами захотим. А если нет… Тогда мы будем горевать. Вместе с нами, отпущенные нами же пространственно-временные проявления. Мысленные образования. Мысленные «дети»… Выходит, что каждый из нас находит в себе и вне себя то, что зовется действительностью – действительным уровнем в проекции восприятия на всех пространственных уровнях этой действительности, которую мы пожелаем увидеть…
Эзерлинг почувствовал прилив необъяснимого. Внутренне напрягся. Но зря. Это был тот случай, когда необъяснимое вписывалось в Контроль Ситуации. Немного подумав, он кивнул кельнеру. Встал из-за уютного столика орехового дерева. Скользнул по лестнице наверх. Через отделанные красным деревом просторные «сени» магазина с полукруглыми, квадратными и прочей формы стеклышками в витринах – в свежий мрак улицы…
Освещенные мощными прожекторами Брандербургские ворота смотрелись еще величавей в густо-фиолетовых сумерках. Возле тротуара, со стороны «У Густава» примостился полицейский броневик Sd. Kfz. 1. Со стальными прорезями-шторами на кабине, снабженный прожектором и сиреной. За ним пристроился шестиколесный, здоровенный, как вагон, грузовик «Хеншель». В кузове рядами сидели солдаты полицейского батальона в полной амуниции, с карабинами.
Подойдя к деревянной будке со стеклянными оконцами, он в нерешительности остановился. Затем шагнул вовнутрь. Взял с рычага трубку. Прислонил к уху. Набрал номер центрального коммутатора берлинской полиции.
— Алло! Полицай-ревир Берлина. Дежурный слушает. Говорите…
— Говорит… доброжелатель.
— Слушаю вас, мой господин.
— Герр дежурный! Запишите срочную информацию для криминалассистента Крешера. На углу Фридрихштрассе и Курфюсдесдам разгромлена лавка Менцеля. Ведущие расследование сотрудники криппо симпатизируют наци. Это все…
— Назовите свое имя, мой господин. Представьтесь…
Кинув трубку на рычаг, Эзерлинг тяжко вздохнул. Затем, осмотревшись через оконца, снова взялся за телефон. Набрав номер отеля «Пеликан», он сбивчиво сказал дежурному портье:
— Дружище! Мы оба германцы, собратья по несчастью. Да, нам выпала честь жить в столь тяжкое время. Что поделаешь… Завтра дежурит герр Вебер. Я вас очень прошу оставить ему записку. Пишите: «Очки для тетушки можете получить на Пикадилиштрассе, 9. Ровно в 20-00, каждый четверг этого месяца». Благодарю вас…
Он побывал на новом собрании. Теперь уже более крупном, чем те, на которых ему ранее приходилось присутствовать в качестве журналиста или стороннего наблюдателя – резидента Советского Центра, информирующего ИНО ОГПУ об оперативно-стратегической обстановке в рейхе. Рейх, собственно говоря, на рейх не был похож. Так, одни жалкие ошметки остались. Все здоровое и сильное съел пресловутый Компьенский мир. В уютной тиши «поганого вагона» первого класса представителями Антанты были навязаны соответствующие подписи под соответствующими документами. Согласно этой «писульке» Германия теряла права на хорошо оснащенную армию с артиллерией, танками и самолетами а также военно-морскими силами. (От всего некогда могущественного кайзеровского флота оставили «репарационный» крейсер «Шлезвиг-Гольштейн» со слабым ходом и вооружением.) При рейхсвере разрешалось содержать лишь «автомобильно-тракторные команды». Рейнская область в 20-х была дважды оккупирована лягушатниками. Ко всему прочему Верховный Совет Антанты навязал Веймарской республике свое резюме: признать земли Рейна… демилитаризованной зоной. Демилитаризованней некуда! Когда весь рейхсвер представлен из 22 дивизий. Влачит полужалкое, опереточное состояние…
Собрание (скорее, по-русски говоря, это был митинг) проходило все там же – под аркой Брандербургских ворот. С права и с лева соорудили дощатые помосты-трибуны для выступавших. (Слева проходил митинг коммунистов, а справа митинговали национал-социалисты.) Гудела, заходясь в криках ликования и возмущения, многотысячная толпа. Овации любимым ораторам сотрясали каменную арку. Со всех сторон митинг окружали многочисленные кордоны полиции. Лица шуцманов и солдат полицейских батальонов были суровы и насуплены. Козырьки суконных шлемов с орлами в веночках давили им на лбы. Руки в перчатках не находили себе места. Дубинки были в чехлах – герр Геринг, ставший к тому времени депутатом рейхстага, добился этого. Сновали типы в штатском, с липучими глазами и лицами, похожими на смятую туалетную бумагу.
— …Мы за 8-часовой рабочий день, друзья! Но мы против борьбы с частным капиталом, — кричал с трибуны «герр Дике» или «дер Дике», Геринг. Он был облачен в кожаное пальто-реглан. На голове у него красовался полевой шлем «филд грау» образца 1918 года. – Мы приветствуем в свих рядах честных промышленников и предпринимателей. Мы зовем их в свои ряды! Они с нами! Долой поганых социал-демократов…
Ему вторил Иозеф Геббельс:
— …Россия и Сталин – вот наш идеал! Когда речь идет о правах германских тружеников, мы призываем коммунистов в свои учителя. Социал-предатели – так называют в России социал-демократических выродков! Мы разделяем убеждения Сталина и большевиков! Это враги народа! Враги нации! Долой! Но классовая борьба должна не ущемлять достоинство нации. Нет, друзья! Наци считают… нет, мы убеждены: равенство трудящихся должно быть всеобщим только при одном условии – соблюдении национальных интересов! Истинный германец – вот наша опора…
— Друзья! Германцы! – на дощатый помост, задрапированный красным полотнищем с символом обращения Солнца, взошел новый оратор. Это был крупный плотный человек в коричневой шинели отрядов СА. В бордовых петлицах у него сияло золотое шитье. – Я, капитан старого рейхсвера Эрнст Рем. Я люблю вас всем сердцем! Моя душа жаждет мира на земле отцов и предков. Мое требование – все заводы и фабрики необходимо передать в руки наших рабочих. Никаких сделок с буржуазией! Долой частный капитал! Я призываю распустить армию и полицию, — в рядах «стражей закона» прошло нехорошее оживление. Головы в шлемах, увенчанных орлами, задвигались. – Все равно эти ребята – не слуги народа, но… — стоявший подле Геббельс заметно толкнул оратора. Тот скривился, но мгновенно продолжил. – Хох! Мы победим, друзья! Если надо, мы потребуем вооружить весь народ. Вооруженная нация! Тотальная война с врагами рейха! Я поведу вас на битву, как древних небилунгов! Хох! Победа близка…
Спускаясь с трибуны, Рем чмокнул в щеку одного из штурмовиков. Парень был кровь с молоком. Он зардел от смущения. Остальные члены СА (парни в кожаных куртках и коричневых шинелях окружали митинг) одобрительно засмеялись. Судя по всему, им это было не в новинку. Из митинга, что слева, вслед этому оратору понеслись одобрительный аплодисменты и выкрики:
— Вот так! Среди наци тоже есть умные люди!
— Как же! Они поддержали нас в 20-ом…
-Надо выступить единым фронтом против социал-предателей! Что скажите, коричневые?
Им отвечали голоса справа:
— У вас слишком много евреев. Они наши враги. Разберитесь с ними…
— Еврейский капитал – враг трудящихся. Это так! Но среди евреев тоже немало таких, которые давили вшей в окопах…
— Да есть и такие. Но они должны пройти проверку кровью. Доказать не на словах, а на деле: еврейский капитал такой же их враг, как и наш.
— Евреи бывают по духу и по крови. Так сказал герр Розенберг. Главный идеолог нашей партии. И наш фюрер тоже так сказал. Евреи по духу наши враги. Евреи по крови могут быть гражданами тысячелетнего рейха. Возрожденной империи…
Ему бросилась в глаза юная девушка. В котиковом пальто и кожаной шляпке с тетеревиным перышком. По ее красивому лицу текли слезы. Голубые глаза сияли. Надо будет ее запомнить, подумал он. Красивые глаза. Одухотворенное лицо. В наше-то время…
Слева выступали Вильгельм Пик и Эрнест Тельман. Оба в кожаных пальто. С нарукавными красными повязками «Роте Фане». Их речи были в чем-то схожи с наци. Они были близки по духу и Эзерлингу. Но он чувствовал, что должен прирасти костьми и мясом к партии национал-социалистов. В этом заключалось задание Центра. Об этом он был обязан доложить в шифрованном сообщении «У Густава». Эльзасец-связной примет его в следующий понедельник.
На его плечо легла тяжелая рука:
— Мой господин! Прошу вас отойти с нами…
Это были двое полицейских в форме. И один тип в штатском. Пальто-макинтош по последней моде (как и у него) стального цвета. Низко надвинутая фетровая шляпа. Они пробились к нему от кордона. Толпа мягко поддалась им, как масло ножу. Девушка, которая плакала, встрепенулась.
— Мы разыскиваем преступника. По приметам он схож с вами, — начал без обиняков штатский из криппо.
— Чем я могу вам помочь? – вежливо спросил Эзерлинг.
— Сущий пустяк, — усмехнулся криппо. – Разрешите заглянуть в ваши карманы…
Так и есть, пронеслось молнией в голове Эзерлинга. Те двое, у Берлинен-университет, были контрольным мероприятием одной из сторон. Ищут оружие, болваны. Ну, ищите…
* * *
Из шифрованного сообщения: Морий-Густаву.
22 ноября 1933 год.
«…В целях успешного выполнения задания Центра считаю целесообразным продолжать разработку и осуществление операции «Синтез». При этом настаиваю на дальнейшем объединении усилий НСДАП и КПГ. Прошу Центр дать добро на организацию и проведение следующих мероприятий: совместные митинги, пикеты, демонстрации обоих политических движений; подготовку через вверенную мне агентурную сеть широкомасштабной компании в партийной и бульварной прессе в целях популяризации единства идей НСДАП и КПГ. Особенно, это важно в перспективе будущих выборов в рейхстаг…»
Из шифрованного сообщения: Густав-Морию.
24 ноября 1933 год.
«…Центр одобряет ваши действия ввиду усиливающегося влияния национал-социалистической партии в Германии. Для успешного выполнения задания вам надлежит вступить в оперативный контакт с источником «Рамсес»…»
* * *
У него деловито обшарил карманы этот тип в штатском. Полицейские в форме (дубинки они держали в чехлах) молча присутствовали при сём. Старший из них, вахмистр, с усами как у живущего в Голландии изгнанного Вильгельма Гоггенцоллерна, виновато опустил глаза. Молодой с оттопыренными губами и блудливым взглядом нехорошо усмехался. По-видимому, «грек»…
— На этот раз вы свободны, — штатский был изысканно любезен. – Но только на этот…
— Спасибо, вы очень любезны, — произнёс Эзерлинг.
Он бросил взгляд перед собой. В пустоту, в пространство. Стоящая немного в стороне девушка с голубыми глазами улыбнулась ему. Глядя в удаляющиеся темно-синие полицейские спины и черно-красные шлемы, он ощутил тоску и одиночество. Там, в советском Центре ему верили. Но здесь… В рейхе, что был святая-святых для него, его исстрадавшегося сердца, он рад был ощутить хотя бы крупицу веры. Правда, в следующее мгновение он пришёл к иному выводу. Рассекая толпу надвое к нему спешили штурмовики СА в коричневых кепи и шинелях, с алыми нарукавными повязками со свастикой в белом круге. Их возглавлял высокий и бравый вояка Герман Геринг.
— Кто смеет нарушать закон о не прикосновении личности? – грозно округлив глаза, рявкнул он на опешивших слуг закона. – Или мы живём в ужасающем безвластии, инспектор? Буква закона для вас ничто?
— Кто вы такой? – криппо оробел, но позиций своих не сдавал. И это понятно: в спину ему незримо дышали его хозяева с Александерплатц, которым Эзерлинг, НСДАП и КПГ были во где… – Ваше удостоверение личности…
— Эта свинья ещё что-то хрюкает! – раздался зычный оклик из толпы. – Эй, коричневые ребята! Бейте эту мразь!
Штурмовики, мрачно засопев, сдвинулись ещё плотнее. Руки шуцманов поползли к кобурам. Уже было не до дубинок – нравы в те времена были, известное дело, какими… Из темно-сине-черных полицейских «шпалер» с шишаками шлемов донеслась пронзительная трель свистка. Строй изломался посередине. Группа шуцманов, раздвигая толпу плечами, тесно сцепляя меж собой локти, ползла к месту намечающейся потасовки.
Её ещё можно избежать , пронеслось у него в голове.
— Благодарю вас, герр депутат, — вежливо парировал Эзерлинг. – Ничего унизительного не произошло. Эти господа просто выполняли свой долг. Не так ли инспектор?
— Верно, — осклабился криппо. Он смерил Эзерлинга негодующим взором. – К этому господину у нас нет никаких претензий. Мы удаляемся… — он взмахнул рукой, давая понять, что в подкреплении не нуждается.
После того, как толпа рассеялась, а ряды темно-синих людей с карабинами, пистолетами и увесистыми дубинками на ремешках, построившись в четкие колонны, удалились по ревирам и казармам, он почувствовал её взгляд. Он вспомнил, как зачарованная, эта юная валькирия поднимала правую руку и её губы шептали заветные слова: «Хайль! Зиг хайль!» Это было в конце, когда молодой оратор и гауляйтер НСДПА по Германии (Gaue) обратился к митингу с получасовой речью. Звали его Адольф Гитлер. Своё обращение он закончил словами: «Германия, проснись!»
— …Какое свинство, мой друг, — рейхсредер Геринг, взяв его под руку, отвёл в сторону. – Не знать меня в лицо! Моими плакатами с огромными цветными фото был оклеен весь Берлин! Да что там Берлин – вся Германия! Свинство…
— Согласен, свинство, — удачливо поддакнул ему Эзерлинг.
— Я и говорю, что свинство, — Геринг одобрительно улыбнулся. Он заметно снизил тон. Потрепал Эзерлинга по плечу. – Герр Августо Де Багера? Друг Германии из далекой Португалии, если я не ошибаюсь? Ведь так?
— Да, вы не ошибаетесь, герр рейхсредер, — Эзерлингу второй раз в жизни пришлось сыграть искреннее смущение. Он залился румянцем, как чистая, непорочная девушка, испытавшая первый поцелуй. – Мы уже были представлены, герр Геринг?
— Ну зачем же скромничать, мой друг? – здоровенные лапищи Геринга легли на плечи. – Вы, помниться, брали у меня интервью о Пивном путче в Баварии. Свой очерк в прошлом номере газеты «Либерасьон» вы посвятили этой теме. Если мне не изменяет память он назывался…
— …он назывался «Кто вы, истинные друзья Германии?» — из коричневой толпы штурмовиков и людей, активистов НСДАП в нарукавных повязках со знаком солнцевращения, выступил низенький щуплый человек в потёртом кожаном реглане. У него был выступающий подбородок, чёрные взлохмаченные волосы и блестящие чёрные глаза. – У очерка был также подзаголовок: «Вы! Лживые «слуги народа», социал-демократы или социал-предатели! Час вашего разоблачения близок!».
Лес рук взметнулся по толпе стоящих нацистов. «Хайль нашему герою!» раздалось из скопления «коричневых ребят». – Мы сломим шею нашим врагам! Зиг хайль!»
— Это доктор Геббельс, — Геринг учтиво подвёл «Августо Де Багера» к своему другу и соратнику. – Это секретарь пресс-бюро нашей партии. И гауляйтер Берлина. Прошу вас по всем вопросам, связанным с информацией, обращаться непосредственно к нему. Итак, я доволен, что Матерь-Валгалла свела нас воедино, — улыбнулся он тонкими, аристократическими губами на прощание. – Мы ещё увидимся, мой друг!
…Часть толпы с обоих митингов, что не желала рассасываться, хлынула в пивную «У Густава». Эзерлинг и Геббельс пошли вместе. «…У нас намечается схватка с коммунистами, — горячо зашептал Иозеф, округляя и без того круглые, как спелые вишни, глаза. – Они собираются преподать нам урок! Им не терпится доказать примат классовой борьбы над интересами нации. Как вам это нравится, герр Де Багера?» «Просто Эрих, — отшучиваясь, проговорил Эзерлинг. – Августо Де Багера всего лишь… ум… гм… псевдоним. У журналистов, доктор, знаете ли… ум… гм… тоже есть привычка шифровать себя. Так что насчёт классовой борьбы?» «О, да! – воскликнул Геббельс. Его широкий, но скошенный лоб прорезала загадочная складка. – Они призывают не просто к борьбе между классами, но к её обострению! Вы представляете, мой друг! Так говорил Сталин, так говорят Пик с Тельманом. Кстати, кое-кто из ветеранов нашего движения сиживал с Тельманом в одних окопах. Во время Великой войны. Не всё так просто, Эрих…» «Не все так просто, — согласился Эзерлинг. – У многих ваших штурмовиков есть подружки-еврейки. Кое-кто из коричневых ребят даже охраняет еврейские магазины и банки. За приличествующую мзду, конечно. Всё не так просто…» «О, вы шутник, — засмеялся Геббельс, показывая жёлтые, лошадиные зубы. – Конечно, величайшей глупостью было бы отрицать, что у отдельных членов нашего великого движения нет своих интересов в еврейском мире. Особенно, когда речь идёт о финансах. Но, я подчёркиваю, что это до поры и до времени! Как только мы возьмём власть…» Тут он поперхнулся от возбуждения. Чуть поодаль (Эзерлинг «сфотографировал» её чуть раньше) шествовала та самая девица. Она, глупышка, не боялась потонуть в сизом табачном дыму. Интересы движения её привлекали куда больше женских шпилек, шёлковых чулок и других предметов интимного аксессуара.
На собрании в пивной присутствовал разнообразный люд. На простых рабочих спецовках и кожаных, потёртых и сравнительно новых куртках, у многих из заполнивших уютный зал людей были красные повязки с серпом и молотом или чёрные свастики в белой окружности. Шумно обсуждался еврейский вопрос (почему во время кризиса и оккупации «лягушатниками» Рейнской области выжили зачастую «обрезанные» фирмы, магазины и банки?), клеймили и громили (пока словесно!) проклятых иностранцев, которым следовало убраться за пределы милой Германии и не забирать работу у простых германцев. Более всех досталось оккупантам-пуалю, которые мутили чистые воды великого Рейна. Реквизировали (уже не в счёт репарациям!) всё что ни попадя, включая станки, кровельное железо с крыш и автомобильные покрышки. Бросали в тюрьмы, а то и расстреливали всякого, кто смел «гавкать» не по ихнему. По этому вопросу, который включал в себя требования пересмотреть условия Версальского мира, были единодушны все: коммунисты и национал-социалисты. По вопросу о расширении жизненного пространства (Адольф Гитлер говорил о том, что Германии катастрофически не хватает ресурсов и колоний), начались кривотолки. Вскоре они переросли в откровенную потасовку. Нацист схватил коммуниста за грудки. Коммунист с треском оторвал лацканы у нациста. Замелькали кулаки… В самый разгар драки (до ножей и вилок как всегда не дошло) в пивную вошли полицейские. Сияя лакированными, как чёрное зеркало, голенищами и козырьками своих шлемов они высказали пожелание остаться и следить за порядком. Как сказал старший из них, «…во избежании разного рода последствий, которые всегда могут возникнуть». Никто не возражал. Все были настолько уверены, что в зале находятся провокаторы и агенты в штатском, что и не думали противоречить представителям закона. Иные ораторы делали главный упор на всемерное развитие классовой борьбы. Она виделась им главным стержнем в общественной жизни. Они не подозревали, что этот меч, подымаемый ими пока только словесно, неизбежным образом готов был обратить своё отточенное лезвие против них. Подобно ножу гильотины, которому всё равно чьи головы рубить – а срубил он их, помнится, немало, подумал Эзерлинг…
Он чуть было не утонул в этом потоке взаимного словоблудия. Геббельс сжимал его за локоть всё крепче и крепче. Как спасатель в бурную погоду, помогая малоопытному пловцу. Это вселяло в сердце Эзерлинга незнакомое ему до сих пор (в окружении наци) чувство всесторонней поддержки. Такое испытываешь от незнакомого человека, не представляющего истинные цели того, кому он помогает. Геббельс, жестикулируя, выкрикивал свои ремарки. Поминутно он прикладывался к высокой фарфоровой кружке с пенистым пивом, что была изукрашена пейзажами. Скорее всего, «Колченогий», как окрестил его Эзерлинг, был тайным агентом одной из сторон. Обычно провокаторы такие и бывают: не в меру велеречивы или молчаливы, когда ситуация того не требует. Ишь, как схватился этот щуплый хромоножка за мой буй. Надо будет осторожно забросить ему другой.
— Вы слушайте, слушайте… — инструктировал он Эзерлинга. – Слушайте, но не старайтесь вникнуть в суть отдельно взятого, незнакомого вам явления. Боже упаси, как говорят эти русские, — Геббельс захохотал, — запоминать отдельные высказывания. Пытаться цитировать их по памяти как Библию. Молитву господа нашего. Сотворить хоть какую-нибудь, мало-мальски доступную гармонию из всего сказанного не получится! Ни самим ораторам, ни тем, кто добротно готовил их выступления. Тот, кто помогает им сейчас так бодро витийствовать на волнах речи, — улыбнулся Геббельс.
Эзерлингу показалось, что сделал он это нарочно, чтобы впустить незнакомца в свою прозрачную душу. Глаза у доктора Иозефа оказались в улыбке необыкновенно мягкие, даже бархатные. И ещё: Эзерлинг уловил потаённым внутренним зрением, что его собеседник часто общается с русскими или выходцами из России. Интонации и обороты речи выдавали этого маленького, колченогого человечка с головой. Догадка так и обожгла его душу. Что если… Но нет, не стоит ускорять события.
— …Чтобы понять смысл происходящего на подмостках этого хорошо отрепетированного представления, — продолжал Геббельс с нарастающим возбуждением, — вам необходимо будет заглянуть на самое что ни на есть дно. В самую подноготную их души, что организовала души каждого из сидящих здесь людей. Внимающим с видимым пониманием данной абракадабре.
— Вы не верите своим же ораторам? – у Эзерлинга нашло затмение на глаза. Весь мир после этого осветился по новому. – Своим собратьям? Единомышленникам…
— Не надо таких громких слов, дружище! – герр Геббельс потрепал его по плечу. – Выпейте-ка лучше пива. Отменное, признаюсь… Вот видите, этот наци, призывающий к новой «хрустальной ночи», искренне уверен, что делает благо. Как и тот, что призывает отвратить свой взор от простого еврейского обывателя. Заняться всерьёз крупным еврейским капиталом. Кстати, такого же мнения Адольф… — с необыкновенным жаром указал он на белобрысого малого в синей рабочей спецовке и потёртоё кожаной фуражке. – Он мнит себя богочеловеком… Эдаким Одином! Однако он глуп, — усмехнулся герр доктор своими лошадиными зубами. – Глуп как тетерев. Он, как и его оппонент, спорят о химерах под прицелом опытного охотника. Тот уже загнал обоих в силки. Искусно сплетённые, хорошо расставленные сети. В них можно жить. Растить детей и даже любить. Чувствовать себя в относительной безопасности. Но это лишь кажущийся обман. Душевный блеф…
— У силков, должно быть, есть имя, — через силу сказал Эзерлинг. Он чувствовал, как Геббельс забирается ему в душу. Проникает в её живительный источник, забирая из него всё живое.
— Конечно! Это сама жизнь…
Вот как, подумал Эзерлинг. Вернее, даже так, а не иначе. Это уже совсем по-русски, герр Геббельс.
— Вы, наверняка зачитываетесь русской классикой, — помог он доктору. – Достоевский, «Братья…» … Как звали этих братьев, не припомните?
— Ка-р-р-рамазоф-ф-ф! – отшутился Геббельс. Но глаза у него были серьёзные. – «Братья Карамазовы», так называется этот великий роман. Этого великого русского. … Теодора как есть… Фёдора Достоевского. Я был покорён его гением. С самого детства, в Рейдте, в нашем фамильном домике, я зачитывался его произведениями. «Преступление и наказание»! Какой порыв души! Какая глубина мысли! Каморка, в которой ютился этот… Раскольникоф-ф-ф… по своим размерам – гроб. Но на его перстне – глобус! С точки зрения добропорядочного германского буржуа, его бунт против общества достоин порицания. Но! Отбросим призрачные химеры. Присвоив богатства этой убогой старухи, этот русский нигилист не отдаёт их ни своей сестре, ни своей матери. Пожертвовал несчастной проститутке! Вот, — Геббельс почти вынул глаза из орбит, — вот это поступок, герр… о, простите, Эрих! «Тварь ли я дрожащая или имею какое право?» Безусловно, этот Раскольников не тварь. Совершивший преступление во имя такого блага не может быть тварью. Протянувший руку помощи ближнему своему не может быть тварью. Сказавший толпе иудейских фарисеев: «Кто без греха, пусть бросит в меня камень!» Этот поступок…
Ну, это ты загнул, подумал Эзерлинг. Про поступок…
— Естественный отбор! – Геббельс сунул свой продолговатый нос в пенистую кружку. – Он совершил естественный отбор! Как Наш Спаситель. Вы согласны, Эрих? Помните: «Кто не со мной, тот против нас»? Лишние должны уйти с нашей планеты. На этой тверди нет места человекообезьянам. Пришла эра Арийских Богов. Золотой век, мой друг! Нам с вами предстоит осчастливить нацию…
— У этой старухи, мне помнится, была работница, — Эзерлинг флегматично притронулся к своей кружке. – В пылу своего деяния Раскольников убил и её.
— Издержки, — улыбнулся Геббельс. – Какое великое начинание не обходится без них? Положа руку на сердце, вы тоже так думаете. Ведь так, мой друг?
Издержки… Положа руку на сердце… Опять он выдаёт мне своего «русского». У него есть куратор в ИНО ОГПУ? Или – в Европейской секции Коминтерна? Или… Неужели «Колченогий» является сотрудником секретариата ЦК ВКП (б)? У Сталина под этой вывеской замаскирована целая разведслужба, о которой знают лишь единицы.
— О, да! – Эзерлинг осторожно коснулся щепотью левой мочки уха. – Раскольников подобен египетскому фараону. Имя которому, если мне не изменяет память…
Геббельс звонко щёлкнул ногтём по фарфоровой кружке.
— Эрих! Я думаю, что мы поняли друг-друга, — он почесал кончик носа. Глаза его заметно потеплели. – Не стоит уточнять имя. Поступим так. Вы придёте в пятницу на будущей неделе в Спорт-Паллас. Ровно в 16-00. Там мы продолжим то, что начали здесь. Под этими романтичными сводами.
Когда Эрих покинул собрание вместе с присутствующими было далеко за полночь. Редкие прохожие отражались в лучах фонарных столбов, что протянулись чёткими рядами по Унтер дер Линден. Впереди шла та самая девушка в котиковом пальто. В кожаноё шляпке с тетеревиным пёрышком. Она звонко топала каблучками. В руках она сжимала сумочку из египетской соломки. Не бедная девушка, подумал Эзерлинг. Интересно, эта фройлен – подстава? Или имя её – моя судьба? Явно напрашивается на знакомство.
Они прошли мимо советского полпредства. За высокой вычурной оградой с тяжёлым красным знаменем с серпом и молотом (по обеим сторонам располагались полосатые будки с шуцманами) высилось здоровенное здание, отделанное белой, серой и синей плиткой. В некоторых окнах горел свет.
— Фройлен позволит проводить себя? – наконец обратился к ней Эзерлинг.
Девушка остановилась. Став в пол оборота на тротуаре, она стала дожидаться, когда к ней подойдут. В напряжённом воображении «Августо Де Багера» тут же возникла целая серия картинок: в тускло меблированном помещении на Александерплатц суровые господа из иностранного реферата показывают ей фото с его физиономией. Подробнейшим образом рассказывают, что он ест и пьёт, где предпочитает гулять и бывать по репортёрским делам. Инструктируют, как лучше завязать знакомство. Само собой, не обходят стороной вопрос о женских пристрастиях объекта. «…Предпочитает женщин стройных и высоких, как вы, милая фройлен. К тому же умных, не распущенных…»
— Да, мой господин, — сказал она как бы после лёгкого размышления. – Улицы Берлина не так пустынны.
— О, да! – подхватил ноту в разговоре Эзерлинг. – Может встретиться всякая шваль.
Он решительно взял её под локоть. Она ослабленно поддалась ему. Надо же, пронеслось в голове у Эзерлинга, они и это предусмотрели. Мерзавцы эдакие. Ему не составило труда разговорить девушку. Звали «юную валькирию» Лотта Айсбах. Была она родом из Саарсбрюка, что счастливо расположился на границе с Францией, соседствуя с Эльзасом и Лотарингией. В сентябре 33-го приехала в Берлин. Покинула отчий дом. Мать, почтенная и уважаемая женщина, владелица (после смерти супруга) мелочной лавки, была против. Недаром о испорченности нравов в больших городах ходят слухи. В домах у аристократов непорочных девушек-горничных обманным образом влюбляют в себя пропитанные кокаином юнцы. Обрюхатив, непременно бросают. С вещами, посреди мощёной улицы. Оттуда два пути – либо домой, либо на панель. Хорошо, если «такой милый» не заразен сифилисом. Тогда через кровь заразит и дитя.
— Я была служанкой в одном богатом доме, — запинаясь от смущения, рассказывала Лотта. Она прикусывала нижнюю коралловую губу. – Мне клялся в любви и верности сам хозяин. Но я не уступила ему, мой господин. Я хорошо помню завет матери: всегда и во всем согласовывать свои действия с разумом и верой в Бога.
— Фройлен католичка? – живо поинтересовался ушлый журналист. Он ожил и заворочался в сложной, многослойной душе Эзерлинга.
— О, да, — кивнула чудная головка в шляпке.
— А вы немногословны, дитя моё, — на этот раз в Эзерлинге ожил приходской священник. Он не давал ему покоя с самого детства. – Одним словом, не типичны для представителя среднего класса. Сейчас в моде «ультрамарин». Как в одежде, так и в отношениях. Словоохотливость нынче в цене. Особенно среди дам. Очаровательных, как вы, милая фройлен.
— Мне тоже самое говорил прежний хозяин, — улыбнулась Лотта. – Барон Людвиг фон… Впрочем, нет. Нет, мой господин! Вы не подумайте – никакая я не трусиха. Просто не хочу сплетничать. Это тяжкий грех. Пред Богом и пред людьми.
— Не сплетничайте, — улыбнулся в свою очередь Эзерлинг. Теперь смутные, глубинные образы выпустили его душу из своих цепких объятий. В нём говорил он сам. – Так чем же закончилась эта история с неудавшимся соблазнением? Надеюсь, я не слишком бесцеремонен, милая фройлен?
— О, нет! – с живостью замахала руками девушка. – Что вы, мой господин! Нисколько… Так вот, я рассказываю вам по порядку. Старый барон предложил мне руку и сердце. Сказал, что я похожа на его первую любовь. Но я осталась непреступна. Сослалась на обстоятельство, которое выручает: дескать дома, в Саарсбрюке, остался мой жених. Мы помолвлены и через год будем обвенчаны. Он оставил меня в покое. Но мои злоключения не кончились. Оказывается, — девушка расхохоталась, — старый барон посвятил мне тетрадь стихов, которые нашла в секретере жена…
Эзерлинг слушал её. Это надежда Германии? Поколение, которое будет жить в новом, тысячелетнем рейхе? Хочется верить. «…По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же её – как лица человеческие; и волосы у ней – как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев её – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах её были жала; власть же её была – вредить людям пять месяцев. Царём над собой она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по гречески Аполлион».
— …сейчас я служу у господина Менцеля, в зеленной лавке, — сказала Лотта. – Продавщицей. Он хороший господин, хоть и еврей. Платит достаточно. Тридцать марок в неделю.
— Это не так много, — с видимым сожалением заметил Эзерлинг. – Евреи невероятно скупы. В скупости своей они опережают любого бюргера.
— Вы так думаете? – спросила девушка. – В Саарсбрюке евреи достаточно щедры…
Договорить она не успела. На углу Курфюсдесдам и Унтер ден Линден происходило ужасное и обыденное. У всё ещё битой витрины зеленной лавки шестеро штурмовиков ожесточенно пинали ногами в кованых ботинках живой, шевелящийся тюк. Широкополая чёрная шляпа лежала растоптанная и смятая, чуть поодаль. «Тюк », закрывши лицо окровавленными руками, глухо рыдал. «Коричневых ребят» это только веселило. Обмениваясь замечаниями, они принялись бить по нему с разбегу. Как по футбольному мячу. Напрягши спинной нерв в области копчика (так учили в разведшколе расслабляться в минуты опасности), Эзерлинг ослабил зрительные нервы. Теперь он видел перед собой лишь хрустальную пустоту. Она была заполнена миллиардами (или мириадами?) блесток. Они двигались как живые субстанции. Ничего не происходит, потому что Бог это контроль…
— Какой ужас, — прошептала девушка сквозь коралловые губки. — Надо вызвать полицию…
Она было рванулась из рук. Он удержал её. Больше силой воли, чем силой мышц.
— Не стоит, фройлен, — сказал он с известной долей сухости. – Это не наша забота. Каждому своё, как говорили древние. Такие же слова, я надеюсь, будут начертаны на арках ворот исправительных учреждений нашего рейха. Великой Германии, чёрт возьми! Хайль…
— Хайль! – ручка Лотты в кожаной перчатке «чулком» стремительно взметнулась. – Простите, мой господин. Я была не права…
* * *
На будущей неделе он побывал в Спорт Паллас. Будучи нацистом по убеждениям, его хозяин предоставил этот современный дворец спорта для проведения митинга. Выстроенное в современном, модерническом стиле, из стекла и бетона, облицованное кроваво-красной гранитной плиткой «бычья кровь», оно светилось снаружи и изнутри множеством огней. Напоминает плывущий среди айсбергов лайнер. «Титаник», ненароком взбрело в голову.
В больших, целиком остеклённых витражах колыхались тёмными сгустками большие человеческие массы. Над самым входом, украшенным синевато-золотистыми неоновыми трубками, развивались два партийных стяга из алого шёлка. Стояли фанерные щиты в человеческий рост. На них горели, составленные из лампочек, призывные лозунги: «Зайди к нам! Ты узнаешь о всемирном заговоре масон и евреев», «Думай о своём будущем и ты окажешься с нами – в рядах СА!», «Национал-социалистическая рабочая партия призывает тебя», «Откликнись! Нам нужны крепкие молодые люди – патриоты Великой Германии!» И, конечно: «Германия, проснись!» Молодые и совсем юные нацисты-подростки, в коричневых рубашках и нарукавных повязках сновали перед входом в гуще проходящих. Совали в руки листовки. Тут же стояли фанерные ящики «кассы взаимопомощи». У ступенек застыли люди в чёрной форме с руническими молниями в петлицах. Они осматривали всех входящих цепким, колючим взглядом. На противоположной стороне улицы с мерно движущимися лакированными авто, грузовичками и автобусами, сиял разноцветными огнями вечерний Берлин.
— Герр Де Багера! – к Эзерлингу устремился незнакомый человек. Он отстранил рукой «чёрного». Провёл журналиста вовнутрь. – Меня предупредил герр Доктор.
— Очень признателен, — улыбнулся Эзерлинг. – Куда я попал, мой господин? Мне необходимо написать репортаж. Телеграфировать его срочно – через час…
— Не беспокойтесь, герр Де Багера, — улыбнулся встречавший. Это был крепкий, но плотный человек. Глаза его были голубые, а волосы белокурые. С пшеничным отливом. Он был облачён в полуспортивный костюм песочного шевиота, клетчатые гольфы и альпийские башмаки с шипами. В лацкане его короткого пиджака красовался красно-золотой значок с крошечной свастикой. – Вы всё успеете. Вас отвезут машиной на телеграф. Это я вам гарантирую, мой друг. Позвольте представиться: активист бюро НСДАП из Мюнхена. Август Беннеке! Проклятые буржуазные традиции…
— Просто Августо, — пожал ему руку Эрих. – Кстати, обращаясь ко мне, вы можете не говорить «господин». Приставка «де» в Португалии и Латинской Америке означает именно это.
В самом зале было полно народа в униформе горчичного цвета. Она состояла из бридж, рубашки с нагрудными карманами и круглой кепи с пятиконечной почти большевистской звездой. Он в шутку назвал её «пентаграммой». У некоторых на отворотах были дубовые листья, что символизировало старую кайзеровскую власть. Эта эмблема указывала на командирские посты, занимаемые этими людьми в недавно разросшейся, прежде такой маленькой и незаметной партии. На кроваво-красных, облицованных гранитом стенах помимо современной живописи с кубами и треугольниками, «летающими глазами» и серыми, плоскими лицами, лишёнными какой бы то ни было индивидуальности, висели полотна национал-социалистических художников. Они изображали стройные коричневые колонны на митингах и собраниях. Облик запечатленных на них людей поражал смотрящего своей циклопичностью, отсутствием теней на лицах и на окружающей их обстановке, обилием солнечного света. Казалось, он изливался не только от неба, но и от земли.
— Полицию вы здесь не увидите, мой друг, — Беннеке предупредительно дёрнул его за рукав. – Старика Гинденбурга всё больше начинают интересовать наши бравые парни. Наш фюрер…
Ладно, подумал Эзерлинг. Посмотрим на что они способны, когда собираются вместе в этом остеклённом, цементно-арматурном кубе. Замкнутом пространстве. Чувство стадности пробуждает во всём человечестве и отдельных его представителях все самые скрытые пороки. Поднимает на поверхность человеческого восприятия все низменные и дурные качества человеческой души. Толпа вообще по природе своей катастрофично уязвима. Надо только уметь рассмотреть эти невидимые, до поры до времени скрытые язвы. «…И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облечённые в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. Одно из четырёх животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков…»
К Беннеке из толпы штурмовиков вышел незнакомый человек. На нём был глухо застёгнутый коричневый мундир с золотой оливковой ветвью в петлицах. Его фигура была плотной, но крепко сбитой. Ступал он косолапо, хотя неповоротливым назвать его было затруднительно.
— Охранные отряды были созданы недавно, — рассказывал тем временем Беннеке. – Тех, что видели у входа? Их функция – отвечать за безопасность проведения наших митингов и шествий. Это своего рода полиция партии. Пока что их число невелико, но мы продолжаем его увеличивать. Участившиеся нападения на нашего фюрера и гауляйтеров нас обязывают…
— Борман, — незнакомец протянул Эзерлингу свою плотную руку.
…Борман вложил в неё пухлую, но сильную руку. Он пожал её, аккуратно пробуя свою силу, а также силу своего возможного противника.
— Вы в первые на подобных мероприятиях, проводимых нашим движением? – спросил он.
— Да, это так – я здесь первый раз и надеюсь не в последний, — усмехнулся Эзерлинг. Тут же он почувствовал, как рука Бормана заметно ослабла. Это успокоило его. – Ваша наблюдательность, герр Борман, вас не подвела.
— Партайгенноссе Борман, — поправил его собеседник. Его крупное, плотное мясистое лицо на какое-то время покраснело, а глаза сделались необычайно живыми. – У нас так принято обращаться к единомышленникам, товарищам по борьбе. Наша партия – не Уайт холл и не Уолт стрит! Августо! Мы не воротилы финансового капитала, черпаемого иудейскими ростовщиками из касс Европы.
— Хайль! – это Беннеке выбросил свою левую руку в партийном приветствии.
Борман лениво отмахнулся своей – короткой, полной, но неимоверно сильной лапищей. Его тёмные, неопределённого рисунка глаза заметно посветлели. Эзерлинг с любопытством разглядывал его крохотный шрам над левой бровью. По одним данным, партайгенноссе получил его в уличных схватках с продажной Веймарской полицией, по другим – с коммунистами, которых та же полиция лупила на равных с нацистами. Всё это было в начале 20-х на мюнхенских площадях. Впрочем, в 1920-м герра Бормана ещё не доводилось видеть никому. В милом фатерлянде. Он застрял на фронтах Великой войны. А именно: в Прибалтике. Там, по сведениям ВЧК-ОГПУ-НКВД формировался добровольческий Железный корпус генерала фон дер Гольца. Понятное дело, чтобы воевать с красными латышами и эстонцами. Вся эта затея обернулась боком для германских волонтёров. Окрепнув, медлительные эстонские и латышские парни, не пожелавшие принять Советскую власть, быстренько разоружили корпус. Пушки, бронеавтомобили, пулемёты, запасы летнего и зимнего обмундирования – всё перешло в арсеналы формирующихся национальных сил. Германцы же, не получив обещанной земли и получив коленом под зад, убрались в свою разорённую контрибуциями Германию.
Бормана на минуту отвлекли. Улыбнувшись, он оставил их. В это короткое мгновение Беннеке успел шепнуть:
— Будьте с ним осторожнее, мой друг. Постарайтесь завоевать его безграничное доверие. Карьера для вас будет обеспечена…
— В самом деле? – Эзерлинг изобразил на лице неуверенное любопытство.
— Признаться, я шучу только по праздникам. И то – в большом подпитии.
— Признание облегчает участь, — невинно вытаращил глаза Эзерлинг.
Они оба рассмеялись. В это время Борман, стоявший под руку с молодым хлыщем с голубыми навыкат глазами, с зачёсанными назад волосами и красно-золотым партийным значком в лацкане модного костюма, сшитого по талии, подмигнул им обоим. Как будто, давая понять – я всё слышу. Хотя по мраморному холлу сновали взад-вперёд коричневые штурмовики, какие-то барышни в пёстрых тирольских платьях с кружевами и передниками, юнцы с барабанами, Эзерлинг ощутил прилив некой волны. Его левое ухо очистилось от шума. В него ворвался тугой, оглушающий свист.
Эзерлинг вошёл в зал. Эта полукруглая чаша с рядами дубовых стульев, сходившихся, как в амфитеатре, с дорожками-спусками, покрытыми мягким ковриком, была освещена юпитерами. Всюду маячили люди с фотоаппаратами и кинокамерами. Трибуна в центре из орехового дерева была задрапирована ярко-красным полотнищем с буддийской свастикой. Она была увенчана созвездием из микрофонов в стальных оболочках. Стены, облицованные коричнево-серой гранитной плиткой, с обоих сторон были покрыты старым кайзеровским штандартом из красно-чёрного шёлка, с чёрно-белым крестом, что был точной копией Железного креста, а также национал-социалистическим со свастикой.
Внезапно он увидел Вебера. Тот стоял у одной из глиняных, с длиннющим горлышком ваз с претензией на тибетский стиль. При этом беседовал с уже знакомым грузным человеком. Его звали Эрнст Рем. У него в бардовых петлицах была золотом вышита эмблема пальмовых листьев в окружении лаврового венка. Венок как у покойника, машинально подумал Эзерлинг. Он на мгновение подумал о том, почему здесь оказался Вебер. Значит у него есть свои знакомые в НСДАП? Не без отвращения Эрих наблюдал за попытками жирного «коричневого капитана» хватать за руку члена КПГ. Поглаживать одну из них. Голова Рэма ушла в толстые плечи. Лицо было рыхлое и серое, так как носило следы нездоровой ночной жизни. Водянисто-серые выпуклые глаза были скрыты дряблыми, припухшими веками. Было известно, что герой Великой войны, а также военный советник при президенте Боливии (во время мексикано-боливийского конфликта) отличался разборчивостью в связях с мальчиками. Особенно, спортивными и симпатичными юношами из хороших семей, что в последнее время захлестнули ряды штурмовых отрядов. Родители оных били тревогу. Многие из них писали жалобы в полицай-президиум, а также на имя гауляйтера ячейки НСДАП Берлина, коим был по совместительству Иозеф Геббельс, он же, как известно — ф а р а о н…
Уперев в коричневые бока жирные руки, он, не переставая морщиться, что-то доказывал Веберу. Время от времени щетина подстриженных усиков раздвигалась – капитан СА ослепительно блистал двумя искусственными зубами. Один из них был из золота, другой сверкал серебром.
Тут прогремели фанфары. Проходы между рядами уже заняли штурмовики с вымпелами районных отделений НСДАП Берлина, Гамбурга, Мюнхена, а также других городов. Громко топая начищенными сапогами, эти юноши замерли по стойке смирно с вознесёнными кверху знаменами и головами. Их выправке мог бы позавидовать любой военный кайзеровского рейхсвера. Идущие за ними подростки в форме НСДАП вскинули серебренные горны. Забили в плоские чёрно-белые барабаны.
Трибуна пустовала. По рядам наци пронёсся нездоровый ропот. А капитан СА Рэм продолжал мирно беседовать с членом КПГ. Стоя у прохода с лестницей, ведущей на сцену. Рядом с Эзерлингом застрекотала портативной двух кассетной камерой Lk дама средних лет. Она тщательно снимала проход штурмовиков с вымпелами, барабанами и горнами. В передних рядах недовольно щурились на Рэма знакомые Эзерлингу лица: Геринг, Борман, Геббельс. Кроме них – высокий, с покатыми плечами брюнет в форме SS. У него был невзрачный вид, а также старомодное пенсне на носу. Он постоянно, то ли смущённо, то ли снисходительно улыбался. Как будто делал всем одолжение. Улыбался он и в сторону Рэма. Но на того это не производило должного впечатления. Лица многих из сидящих в рядах и стоящих в проходе нетерпеливо поворачивались, будто на шарнирах, назад и вперёд. Все были как заколдованы и чего-то ждали.
Геринг, налившись кровью и едва сдерживаясь, поднял было своё крепкое, дородное тело с хрустнувшего стульчика (закачался весь ряд), когда Эзерлинг сказал: «Кх-кх!». Нарочно громко. Сделал он это совершенно случайно. Но до Рэма наконец что-то дошло. Он стал багровым до складки на бычьей шее до кончиков ушей. Хлопнув Вебера по плечу, необычайно легко взбежал на сцену. Занял место за трибуной.
— Хайль! Друзья мои! – он вскинул руку.
— Хайль! – ответила ему рёвом толпа коричневых и чёрных людей.
Вскинулся лес рук. Многие из сидящих встали. У многих по щекам текли слёзы. «Проснись, Германия!» — ревел недалеко от Эзерлинга старик с пушистыми усами, с ленточкой Железного креста 2-го класса в петлице. Кричали мужчины и женщины. Над залом, вынырнув из динамиков на стенах, поплыла музыка– «Полёт валькирий» из оперы Вагнера «Кольцо Небилунгов». Дама с портативным киноаппаратом стрекотала, как стрекоза под самым ухом Эзерлинга. Её закрученные чуть ли не в спираль золотые локоны, изящная шляпка-пирожок, голубоватый кашемировый шарф излучали запах парижских духов. «Простите, милая фрау! Не могли бы вы встать чуть левей?» — обратился он к ней стонущим шепотом. Она, загадочно улыбнувшись полными, красивыми губами, лишь застрекотала объективом в его сторону. Полная дура…
— Друзья! Германцы! Я вышел к вам – распахните ваши сердца! – Рэма явно несло не туда. – Вы знаете, кто сейчас выйдет к вам. Хайль Шикльгрубер! – усмехнулся он. — Поэтому, помните, что я вам говорил и не устану повторять, товарищи! Я, братья Штрассер, братья Стенесс, а также немногие другие, кто не подпал под чары капиталистических наймитов призывают вас – к социальной революции, германцы! Только натиск вперёд! Только свержение поганой, прогнившей буржуазии…
— Довольно! Уймитесь…
Это сказал вскинувшийся опять Геринг. Он сделал движение рукой. Микрофоны разом отключились. Рэм остался обеззвученным. Он напрасно шевелил губами. Но в полном гула замкнутом пространстве его толком никто не слышал. А ряды штурмовиков в центральном широком проходе раздались. По обе стороны. Меж ними энергично шёл уже знакомый Эзерлингу оратор из Мюнхена. Адольф Гитлер был облачён в коричневую форму СА без знаков различия. На боку – штурмовой нож с «рогатой рукоятью». На ногах вместо сапог были тирольские шерстяные чулки пестрой вязи, а также тяжёлые альпийские ботинки на толстой подмётке. Он уверенно шёл вперёд, излишне выпучив бледно-голубые, насмешливые глаза. Они постепенно зажигались огнём исступления. Под верхней губой прыгала щёточка смоляных усов. На лоб ниспадала непослушная чёлка. С непропорционально-коротким туловищем и длинными ногами фюрер не выглядел красавцем. Однако весь облик его излучал решимость и энергию, что охватывали толпу. Делали её послушной, как женщину в объятиях сильного мужчины.
Отстранив Рэма от трибуны (тот, бледнея и краснея, сошёл в низ к своим единомышленникам), он коснулся щёпотью пальцев ближайшего микрофона. Его тут же включили – над залом пронеслось гудливое эхо. Дама со стрекочущей камерой подошла почти вплотную. Геринг обменялся с ней торопливым взглядом. С этого момента она больше не двигалась. Объектив без устали смотрел на оратора.
— …Германцы! Близок час Страшного суда. Заиграет в трубу пятый Ангел. И мёртвые предки придут из объятий Валгаллы. Они восстанут из праха земного! Их великий дух войдёт в наши тела подобно живительному нектару, — орал Гитлер, потрясая кулаками. – Скоро, очень скоро закончится обман жидовской плутократии! Часы движутся! Они показывают время Страшного суда! Время разоблачения одного из самых подлых мифов мировой истории – миф о власти мирового еврейства над народами Европы! Вместе с вами я жду великого часа освобождения! Великие льды уже дают трещину! Они тают под огнём арийства! Эпоха льда сменяется эпохой космического огня! Мы несём его в своих сердцах! – он затрясся, как наэлектризованный. Толпа в зале притихла. Лишь герр Розенберг, автор «Мифа ХХ века», не терпеливо заёрзал на стуле. Не хотел, видно, терять пальму первенства борьбы с мировой плутократией. – Германия, Германия превыше всего!
Царапнув щёку, к руке Эзерлинга потянулась ручка дамы с портативной камерой. В изящных пальчиках с перламутрово-розовыми ноготками была визитная карточка белого атласа. «Лени Ронненшталь, студия хроникально-документальных фильмов. Кинокомпания «ЕФА». Он с интересом воззрился на эту визитку. Затем любезно принял её из рук дамы. Медленно, сохраняя напускное достоинство, вложил в верхний карман пиджака.
Потом было факельное шествие по всему Берлину. На улицы, обсаженные липовыми деревьями, уже легла тьма. Штурмовики в коричневой форме, с наплечными рыжими ранцами, высоко неся пылающие факела, маршировали нога в ногу. Мостовая скрежетала под кованной поступью их шагов. Колонны сопровождались усиленной полицией. Но она вела себя почтительно. Впереди ехала на крыше мини-автобуса «Опель» знакомая Эзерлинга. На этот раз, склонившись к стрекотавшей камере с двумя катушками, на треноге, что была установлена на огороженную площадку на крыше авто, Лени Ронненшталь снимала проход коричневых колонн. Фюрер и его соратники шествовали в первых рядах.
А через неделю после публикации репортажа с места событий в газете «Либерасьон», а также его перепечатке со ссылкой в ряде европейских изданий, в отель «Пеликан» на лакированном лимузине заехал уже знакомый Беннеке. Он пригласил Эзерлинга в фешенебельный отел «Кайзерхоф» для встречи с одним влиятельным лицом в партии национал-социалистов. Августо Де Багера, не колеблясь, согласился.
* * *
Из дневника Иозефа Геббельса:
«Думаю о социальных проблемах. Экспрессионизм… Споры о Боге вечером в моей каморке… Вечером нет денег на ужин. Оставил официанту часы. Фантастические планы женитьбы. Разбиваются о мещанство. Политика. Демократия и коммунизм… Девки в университете… Мистика. Поиски Бога. Я в отчаянии. Анка больше не может помогать. Куда деваться?.. Анка потеряла наши деньги. Тяжёлая сцена. Поиски покоя и ясности… Я должен найти себя».
«Пасха 1920… Лихорадочное чтение. Толстой. Достоевский. Революция во мне. Россия… Красная революция в Руре. Там она спозналась с террором. Я издали восхищён. Анка меня не понимает».
Часть вторая. Советская Россия. 1940-41…
Повестку она обнаружила в почтовом ящике. Меж двух газет: «Правды» и «Известий». Два свеженьких утренних номера, ещё пахнущие типографской краской, и сплюснутая меж ними серая, неприметная бумажка. На самой вершине у которой было крупными чёрными буквами – ПОВЕСТКА. Чуть пониже, прекращаясь у большой синеватой печати с пометкой УНКГБ по Краснодарскому краю, в отпечатанный по трафарету текст, от руки вписаны её фамилия, имя, отчество, адрес (вернее, прописка её родственников), установленные для её явки (слава Богу, не с повинной!) дата и время…
Зачем ей так срочно надо было явиться к занятым, серьезным людям по указанному адресу и в указанное время – указано, понятное дело, не было…
Аня дурочкой не была. Не от рождения, не по жизни. Как и многие другие, живущие в то неспокойное, великое время, она прекрасно знала про частые визиты «ночных гостей» в серых кепках и балоньевых плащах, про алевшие внизу огоньки «чёрных Марусь», работающих на холостом ходу. Посвёркивающие из кабин цигарки ждущих водителей. Вместе со всей страной она читала стенограммы процессов над вредителями, диверсантами, врагами народа, шпионами иностранных разведок. Их имена были на слуху. О них раньше говорили с восторженным придыханием. Товарищ… Товарищ Тухачевский – победитель Колчака! Товарищ Зиновьев – любимец Ленина! Товарищ Бухарин – любимец партии! И вот… Оказалось, что никакие они теперь ни товарищи, но – служат чёрному делу социал-фашиста Троцкого, что обосновался в Латинской Америке. Кое-кто, как и Родион Малиновский, близкий к Ленину, тоже бывший товарищ , работал на царскую охранку…
В 34-м отца Анны арестовали как врага народа. Служил до того при полпредстве в Париже, помощником торгового атташе. После ареста мать всячески принуждала дочь отказаться от него. Говорила на все лады, что так нужно. Что это, наконец, воля самого отца. Но Анна была ни в какую. Мать вскоре сделала это. Вышла замуж. Укатила в Германию. А дочь отправила на Кубань. В Краснодаре жила двоюродная сестра матери. Вместе с мужем она уехала на всё лето в Крым. Так что огромная квартира из трёх меблированных комнат, с обслугой, была в полном распоряжении.
Перед отъездом Аню вызвала к себе завуч по УВР школы для детей сотрудников Наркомата иностранных дел. Она, барабаня по столу карандашом, спросила:
— Ну что, Крыжова, как нам быть с твоим вопросом? Через год выпускные, будешь поступать. Я знаю, что будешь. Могут не принять документы. Сразу тебе говорю.
— Не стоит меня стращать, Октябрина Львовна, — достаточно уверенно сказала Аня. Она сидела на стуле, поджав коленки. – Я знаю о чём вы. Только отца своего всё равно не предам. Вы бы предали?
— Дурочка, — та сняла большие очки с золотой дужкой, на золотой же цепочке. Растёрла сухую, пергаментной свежести переносицу. – И ещё раз так скажу. Кто тебя просит предавать? Кто так ставит вопрос, Крыжова? Прояви политическую смекалку. Обдумай как следует, — её колкие, подслепые глаза смотрели пронизывающе. – Если органы госбезопасности…
— Знаю! – побледнела Аня. – Всё знаю. Что зря у нас никого не арестовывают. Только он мне отец. Понятно? Пока сам мне не признается, что враг, никогда этому не поверю. Слышите, никогда!
— Значит, не любишь ты Советскую власть, — сумрачно молвила завуч. – Не любишь, девочка.
Не помня себя, Анна хлопнула дверью. Однако вечером в квартире прогремел звонок. На пороге стояла Октябрина Львовна. «…Может впустишь меня, красавица сеньора?» – с усмешкой спросила она. Сев за устланный кружевной скатертью стол в гостиной, она, ни говоря ни слова, вынула из портфеля листик бумаги. Со словами: «…Ну как, про отца надумала?», листик оказался перед глазами смущённой Ани. На нём было написано: «Поступаешь правильно. Одобряю. Поезжай на лето в Краснодар к сестре матери. Остальное – при встрече. Сейчас никаких вопросов. Если согласна, кивни». Аня кивнула…
…Они собирались друг у друга. Излюбленными компаниями. На квартирах, при запертых дверях и отключённых телефонах (знаем про секреты «подслушки»!) шептались на разные темы. При уханье напольных часов в футляре из орехового дерева, с размеренным шорохом гуляющим маятником, которое заставляло вздрагивать и прекращать потайные разговоры. Ожидая, что вот-вот появится из самого тёмного, потаённого угла высокий военный человек. Покажет в развороте небольшую красную книжицу в коверкотовой красной обложке. И – «Кончилось, братцы, ваше веселье!»
Кто у кого арестован, как кому можно помочь. Кому можно доверять, а кому не стоит. Читали и перечитывали письма оттуда. В них говорилось о голоде на селе, где крестьяне во времена великого перелома и коллективизации съели всех мышей и крыс. В лагерях, где сидели родители многих ребят, организованного неведомо кем и неведомо зачем «Антисталинского союза молодежи», будто бы сидели миллионы узников. Только за то, что посмели перечить линии генсека. За украденный с поля колхозного колосок, за произнесённое в разрез политики партии слово, за анекдот против Сталина. «…К этому ли вёл страну Советов товарищ Троцкий и товарищ Ульянов-Ленин? – вскипел Толя. – Сталин и его компания похоронили заветы наших вождей. Сгубили дело Октября. Видели фильм «Ленин в Октябре»? Там только Сталин возле Ленина и никого более. Ни Рыкова, ни Бухарина, ни даже Пятакова с Томским. А уж о Троцком я вообще молчу. Из страны его выкинули! Создателя Красной армии… Какие были люди, ребята!» «…Поганая грузинская рожа! – вторил ему Лёша, что был заместителем председателя подпольной организации. – Убить такого мало. А ведь кидали же народовольцы бомбы в царских сатрапов! Нам также надо обдумать вопрос о проведении террористических актов. Они того заслуживают. Этот жид Молотов с Кагановичем. Этот Вышинский, который был агентом царской охранки. А при Временном правительстве разыскивал товарища Ленина с Зиновьевым. Гады они…».
Всё началось с визита соседки по квартире. Людка Пономарёва в шёлковом платье и белоснежном банте позвонила ей в дверь. «…Ой, вы, девушка, новенькая! Видимо, родственницей будете тети Вали и её мужу?» Получив утвердительный ответ, она смело впорхнула в открытую дверь. И не выпорхнула до сих пор. Вскоре Анна попала на «слёт». Проводился он в старом купеческом доме на улице Коммунаров, что вблизи от Управления НКГБ. Толя Очагов, председатель, как именовала его Людка, заперся с Аней в отдельной комнате. Поговорил обстоятельно. Во время беседы девушка ловила себя на ощущении: хоть и расспрашивает за что посажен отец, но о главном умалчивает. Так оно и было. Пожимая руку, приветствуя в ней «борца со сталинской тиранией», он, проведя мизинцем по верхней губе, прошептал: «Тебе привет от Октябрины Львовны».
А через пару недель случилось то самое. Аня сидела в Центральной библиотеке и штудировала ленинские работы о большевистской печати. Ощутила лёгонький толчок в плечо. Та самая Людка. Теперь уже в платье-матроске. С развевающимися по плечам русыми волосами и озорно поблёскивающими зелёными глазами. «…Анюта, давай пройдёмся. Хочу тебя кое с кем познакомить». У трамвайной остановки стоял невысокий сухопарый человек. В фетровой шляпе, в строгом сером костюме. В руках вертел тросточку. В лице его было что-то близкое и душевное. Но Аня сразу же смекнула, что незнакомец скорее всего не советский человек, но иностранный поданный. Так и случилось.
«…Эрнест Шпигель, — улыбнулся человек. У него были водянисто-серые глаза среди частых складок хорошо промытой кожи. Они лучились непонятным сиянием. – Приехал в ваш великий страна как турист. Жить на юг Франция. Правительств Виши! Там есть много русский писатель. Бунин, Мережковский… Германия нихт! Этот страна проклят, так как в ней этот Гитлер. Шельмец…»
Расхохотавшись, обе девушки протянули ему свои крепенькие розовые ладошки.
«…Куда мы есть идти? – Шпигель пожал руку Людке. Неожиданно поцеловал руку Анны. – Я недавно смотреть ваш славный город. О, столица казаков! Это есть колоссаль!»
Они прогулялись по набережной Кубани. Пили газировку из автомата ввиде стеклянных колб. Шпигель купил по три разноцветных шарика. Подарил каждой девушке. У фотографа с аппаратом ФЭД, что дежурил от ателье, Шпигель за двадцать рублей заказал три снимка на фоне железнодорожного моста. При этом время от времени поглядывал на часы. Как показалось Ане, тянул время. Вскоре, по его знаку, девушки заняли место у железных, крашенных в голубое перил ограждения. За спиной донёсся гул приближающегося по рельсам поезда. Судя по всему это был грузовой состав. Глядя в щёлкающий фотообъектив, Аня спиной чувстовала давление, исходящее позади. Вскоре, после того как фотографии были сделаны и плёнка (за полтинник доплаты!) отдана Шпигелю, Надю как бы ненароком толкнул локтём проходящий мимо молодой человек. В парусиновой толстовке и белой кепке. С коротко остриженным затылком. Она обернулась к уходящему серой змеёй товарняку. С зачехленными платформами, на которых, как показалось, стояли часовые с винтовками.
Вечером следующего дня Шпигель сводил их в кинотеатр «Октябрьский». Шёл фильм «Трактористы» с Николаем Крючковым в главной роли. Ну, Ладынина, с её белокурыми волосами и огромными, как озерищи, глазами, понятное дело — была не в счёт… Когда цыганского вида Крючков, измазанный в машинном масле, гаркнул: «Танк это машина!», Шпигель издал вздох восхищения. Хлопнул в ладоши. Так, что близ сидящие громко зашевелились и недовольно зашикали: «Понимать же надо, товарищ! Фильм идёт…» В белому полотну экрана понеслись знаменитые танки с обрешётчатыми башнями. Они перепрыгивали через холмы. Валили гусеницами деревья. Ныряли в озёра…
Выйдя из кинотеатра, Аня также ощутила спиной знакомое давление. Расставшись с «туристом», она устроила форменный допрос подруге. Та бормотала невнятное. Шла по городскому парку. Он шёл на встречу. Толкнул её. Помидоры рассыпались… Ага, подумала Аня. С каких это пор Людка за помидорами сама на рынок ходит. У неё та же домработница, что и у нас. Тётя Дуся. Каждый день убирает квартиру. Покупки делает. Темнит что-то… Тем же вечером она обратила внимание на поведение Шпигеля. Ей показалось, что во время сеанса в правом кармане его брюк что-то зашуршало. Затем немец заёрзал на сиденье. После сеанса он купил девушкам мороженное-пломбир в вафельных стаканчиках. Но на обратном пути, косясь на проходящий трамвай, быстренько с ними попрощался и прыгнул в него на ходу. Мимо девушек протопали ногами двое моряков с развевающимися на ветру чёрно-золотыми ленточками. Но звенящий на путях трамвай был уже далеко. Тогда один из них, подмигнув Ане и Людкой, поймал такси. Куда он так торопился, подумала девушка.
Утром её разбудил звонок в дверь. Открыв её, Аня обомлела. На пороге, застенчиво улыбаясь, собственной персоной стоял… турист.
«…О, простите меня, Анья! – начал он. – Мне так неловко есть… Мы договориться с ваш очаровательный подруг о встреча. Ви понимайт меня? – он отступил на два шага назад. Постучал тросточкой в дверь Людкиной квартиры. – Но её здесь нет! Как неловко, — сказал он, почти не коверкая русскую речь. – Как мне не ловко. Я могу её подождать?»
«Да, конечно…», — кивнула она. Запустила гостя в квартиру. Заварила чай на принесённых Дусей земляничных листьях. Шпигель сновал по гостиной. Рассматривал вывешенные на стене фотографии в деревянных рамках. Особенно его заинтересовали те, где был запечатлен дядя Гриша в танкистской форме. Покачав головой и поцокав языком, Шпигель уселся за орехового дерева стол. Принялся за чай с клубничным вареньем и овсяным печеньем.
«…В России много военных, — сказал он чисто по-русски. – Очень богатая и мощная страна. Вы любите Россию, Аня?»
«Почему вы меня спрашиваете? – стрельчатые брови девушки удивлённо взметнулись. – Я советский человек. Я не могу сказать нет. Не потому что боюсь так сказать. Нет! Я люблю свою страну всем сердцем. Всей душой, если она, душа, есть на этом свете».
«О, вы говорите как философ, — изрёк Шпигель. – Признаться честно, я восхищён не только вашей страной, но и лично вами. Да, Аня. Не удивляйтесь. Хотя, может быть, вам предстоит ещё многому удивиться. В ваши молодые годы».
«…Вы шпион?» – этот вопрос Аня задала наугад.
Шпигель опустил голову. Отложил надкушенное печенье в хрустальную вазочку. Аня обомлела, ожидая чего-то ужасного. Но… Плечи немца мелко затряслись. В горле и груди у Шпигеля забулькал оглушительный хохот. Смеётся, подумала Аня с облегчением. Весело ему…
«…Шпион? Ха-ха! Чрезвычайно остроумно, фройлен, — сквозь хохот выдавил он из себя. Когда поднял глаза, они были полны слёз. Немолодое, морщинистое лицо заметно раскраснелось. — Вы знаете, что, если не вынуть штекер из телефонной розетки, нас будет слышно на телефонной станции? – он кивнул надушенной, стриженной под бобрик головой, где блестела седина, в сторону чёрного аппарата на тумбочке. – Возможно, ваши товарищи из НКГБ тоже будут слышать нас. Специально для них я говорю: нет, я не враг России. Я друг вашей страны. Вас удовлетворил мой ответ?»
«Нет, — сурово качнула головой девушка. Её белокурые локоны разметались в стороны, будто дунуло из окна. – Я не такая дурочка как это может показаться».
«Что ж, — заметил турист. – Это несколько меняет дело. Впрочем, о самом деле. Приступим, как говорят у вас, в России, — он вынул из плоского, коричневой кожи портмоне фотографию. Осторожно придвинул её к Ане: – Взгляните, фройлен. Вам будет интересно».
Никакая я вам ни фройлен, хотела было произнести Аня. Но взгляд её будто сам по себе обратился на стол. И… Перед глазами поплыли знакомые лица. Отец и мать, одетые по европейской моде (он в длинном костюме и примятой посредине фетровой шляпе, она в шляпке-«пирожок», в открытом платье с кружевным ридикюлем) на фоне взметнувшейся до небес Эйфелевой башни. Шпигель повернул фото тыльной стороной. Рукой отца было написано: «Наша жизнь протекает бесконечно. Этот железный Сфинкс, что смотрит нам в затылок, всего лишь подтверждение тому». И подпись: «Кр» с характерной для отца завитушкой. Дата: 11 марта, 1935 год. Всемирная торговая выставка в Париже.
«Откуда она у вас? – хриплым, чужим голосом спросила девушка. — Немедленно отвечайте. Иначе…», — она метнула негодующий взор к чёрному телефонному аппарату.
«Вам не следует туда звонить, — с улыбкой посмотрел сквозь неё Шпигель. От этой улыбки у неё по спине пробежал холодок и затряслись мелкой дрожью коленки. – Вы понимаете, о чём я? Нет, не понимаете, милое дитя. Ваше присутствие на собраниях одной подпольной организации уже давно фиксируется органами НКГБ. С нашей подачи, разумеется. Вы там… — снова улыбнулся он, но уже помягче, — выполняете одно задание. Пока это так, вас никто не тронет. Если же вы станете делать глупости, Аня, никто, даже я, ваш покорный слуга, не сможет вам помочь. Статья УК РСФСР 58-10, если не ошибаюсь, за контрреволюционную деятельность, вам обеспечена».
Они некоторое время сидели друг против друга в тишине. Было слышно как за окном звенит трамвай, гремят железом ворота продсклада, откуда выезжала грузовая ВАЗ ААА. Ходики на часах с кукушкой мерно качались из стороны в сторону. Раздавалось тиканье.
«С вашего позволения, Аня, я оставлю вас, — Шпигель неторопливо встал. Оправил ловким движением синего цвета шевиотовый костюм. – Надеюсь, это не последняя наша встреча. Всего вам доброго, милая девушка, — выйдя в прихожую, он со шляпой в руке и с неизменной тростью застыл на пороге, перед закрытой дверью. – Да, вот ещё что! Прошу прощения за некоторый резкий тон. Это были издержки. Это была моя ошибка. Иными словами, я был не прав», — произнёс он на последок.
Не помня себя, Аня щелкнула рычажком английского замка. Волна света и тепла окатила её, когда обшитая кожей дверь плавно закрылась за ним…
* * *
В приёмной НКГБ, выстояв очередь, она сунула серую, немного примятую повестку в открытое окошко. За ним серый обшлаг с начищенной медной пуговичкой помешивал крепкий чай в сияющем медном подстаканнике.
— Подождите там, — сказал ей дежурный, указав рукой в узкий, отделанный мраморной плиткой коридор.
Там оказалась прямоугольная комната с длинной деревянной скамьёй. На стене висели чёрные телефонные аппараты. Красно-золотая табличка «Не курить!»
На деревянной скамье сидел какой-то старичок. Белая окладистая бородка. Красные подслепые глазки непонятного свечения из-под насупленных седых бровей. За плечами котомка как в старину. В руках — сучковатая палка. На лацкане пиджака медаль Героя Соцтруда. Рядом на скамье – шапка-кубанка серебристого барашка с золотым перекрестьем на малиновом верху. Во, как…
— Непонятного много на этом свете, девонька, — протянул он, оправляя бороду сморщенной ладонью. Пожевав, словно нарочно, седые усы, продолжил. – Ты-то тут как? По неразумию своему иль чего похуже будя?
Аня, стиснув колени и губы, упрямо молчала. Тишина становилась гнетущим сном.
— Надоть тебе, красавица, помолиться, — продолжал старичок. – И Богу в церкви свечку поставить. Вон она, церковь-то – через дорогу будя. Как по Коммунарам пойдёшь, так в неё и попадёшь. В церковь Божию…
— Я в Бога не верую, — наконец молвила девушка.
— А кто теперича верует? – усмехнулся дед-столет. – Я, думаешь, тоже верую? На баб да девок незамужних всё больше поглядываю. Эхма, было времечко! Дед Тимофей своего не упустил. Пожил всласть. Да только суета всё это, — внезапно остепенился он. У неё на глазах. – Было времечко да прошло. Утекло, как речной песок чрез пальцов-то. Вот и я говорю…
Его словеса или их поток прервались цокотом каблуков. В приёмное отделение УНКГБ вошёл молодой бравый военный перекрещённый портупейными ремнями. На рукавах у него красовались три малиновых усечённых шеврона. В малиновых же петлицах – столько же треугольников. На ходу он помахивал серым листком, смахивающим на Анину повестку.
— …Вот что, Саблин, ты мне тут огород не городи, — весело бросил он старику. – Всё агитацию разводишь! Бес, понимаешь, ему в ребро. Ступай к себе домой, в станицу, и не вздумай там людей мутить. Архангелы ему, видешь ли, являются! Конец света пророчут… Я те дам, конец света! Такой конец, что дальше не заедешь…
— Воля ваша, — подымаясь, заметил старик. – Да только они являются. Всамделишно…
— На здоровье, — отмахнулся военный. – Пусть себе… И по многу раз! Только не вздумай мне в крайком ещё заявиться! Со своими проповедями… Нет, до чего додумался, — он развернулся в пол-оборота к Ане. Упёр руку с малиновыми шевронами в бок. – Записаться на приём к первому секретарю и у него — в присутствии передовиков производства…
— Бог с вами, — перекрестил его старик. – Живите с миром…
Шаркая стоптанными сапогами, он вышел.
— Крыжова? Анна Павловна? – приступил молодой военный. Проведя рукой по взъерошенной голове, он топнул начищенным сапогом. – Ну? Отвечай!
— Да, да…
— Двадцатого года рождения?
— Ну да…
— Вам следует подняться наверх. Второй этаж, кабинет номер тридцать три. И без ну…
Поднимаясь по широкой мраморной лестнице с ковровой дорожкой на металлических штырях (прямо с площадки с балясинами на неё смотрел гипсовый бюст товарища Сталина, который усмехаясь в усы, как бы говорил «Ух, я тебя, бесстыжая!»), она спиной чувствовала как на неё смотрят эти двое. Дежурный в фанерной будке за пультом коммутатора, с телефонами без наборных дисков и щеголеватый военный с шевронами. Вскоре хлопнула наружная тяжёлая дверь с вычурными бронзовыми ручками. Знакомый голос по-стариковски прошамкал: «Я вот что попрошу, господа-товарищи! Люди мы все Божии! Одной кожею обшиты. Так вот, справочку мне надобно, что я в милицию-то и в этот самый, диспансер-то, по неразумению попал. Не то худо будет! Председатель у нас казак суровый. Трудодни мне не зачтёт…»
Следуя по ворсистой ковровой дорожке, что устилала длинной змеёй прямой коридор, она нашла в ряду ладных дверей с дубовыми панелями ту, что имела зеркальный овал с номером «33». Мимо неё неслышно ходили люди в гражданском и форме: синие брюки-галифе, малиновые петлицы и шевроны. Кое-кто нёс картонные папки под мышкой и имел весьма растрёпанныё или чрезвычайно деловой вид. Раз проследовала девушка с насупленными, поджатыми губками.
Она постучала кулачком – тук-тук! – ожидая самого худшего.
-…Можна! – гаркнул из-за двери прокуренный голос.
Она, снуя коленками, протиснулась сквозь щель полуоткрытой двери. На удивление там было не страшно. Скорее даже обыденно. Ёлочка навощённого паркета. Тяжёлые, ниспадающие синие гардины, что заслоняли почти до пола батареи парового отопления. Мебель морёного дуба с тяжёлыми бронзовыми ручками. Огромный несгораемый шкаф в правом углу. Огромные напольные часы «кремлёвка» в левом углу с бесшумно скользящими ходиками. За столом перед бронзовой же чернильницей ввиде танка Т-28 (чернило заливалось в ёмкости , что были расположены в трёх открывающихся башенках), с парочкой телефонов, положив руки на зелёное сукно, покрытое стеклом, сидел человек в гимнастёрке, внешность которого больше всего не понравилась Ане. Она органически не переносила подобных людей. Физиономия грузчика или боксёра. Примятый нос, тяжёлая, точно вдавленная ударом челюсть. Невидные под глубоко запавшими веками глаза. Мощный, конической формы череп был подстрижен под бобрик. Судя по единственному кубику в петлицах, начальник был ещё тот.
— Что стоишь как бедная вдова? Садись! – словно уловив её неприязнь, фамильярно начал он. – Повестку давай! – протянул он мощную, с обозначившимися буграми мускул руку.
— Я забыла, — прикусила губу Аня, опускаясь на стул. – Там…
— Что забыла? Где это там? – выпятив нижнюю губу, нагло спросил «бобрик».
— Внизу, у дежурного, — промямлила Аня себе под нос. – Повестку…
— О, как! – хохотнул он, заставив её сжаться в комок. – Повестку она забыла! А голову свою не забыла? Голову свою, когда из дому шла… Повестку она…
Подкрепляя своё негодование, «бобрик» принялся шумно хвататься руками за трубки телефонных аппаратов, бросать их на рычаг. Затем, упрев руки в боки, шумно двинул стул. Так, что у Ани заходило сердце в подмышках. Но ничего. Обошлось. Военному просто вздумалось пройти взад и вперёд.
— Раз забыла, значит её у тебя не было, — произнёс он внезапно, затаившись за её спиной. – Значит ты у нас теперь кто?
— Кто? – с ужасом спросила Аня.
— Задержанная!
— Почему это? Я что…
— А кто ты ещё, красавица маркиза? Или сеньора? Парле де франсе? Шпрехен зи дойтче? Буна нуштры?.. На каком языке предпочитаете говорить, госпожа иностранная шпионка? Ви меня есть понимайт, фройлен?
Аня захолодела ещё больше. Он явно издевался. Не давая ей шанса на оправдание, стремился во что бы то ни стало припереть её к стенке психодавлением. Не давай себя подчинить, дочка, раздался словно из далека, знакомый голос. Говорил отец. Уму не постижимо…
— Не надо так со мной разговаривать, товарищ… — начала она было уверенно, но тут же сбилась. Ища поддержки, подняла голову на портреты. Сталин, Калинин и Молотов…Был также портрет нового наркома госбезопасности товарища Берия. Его умный взгляд под стёклами пенсне вселил в неё новую волну уверенности. — Представьтесь немедленно! Ваше звание в органах госбезопасности? Лейтенант госбезопасности?…
— Лейтенант…
Он явно растерялся. Явно не ожидал от неё такого. Остановив свой поток давления, принялся собираться с мыслями. Даже поскрёб неожиданно затылок. Аня машинально сделала то же. Тут же ощутила, как между ними прошла тёплая волна. Ага, попала…
— Девушка! – строго, как учитель в школе, обратился к ней «бобрик». – Здесь я решаю как и что должно происходить. Сидеть вам или стоять. Вы это понимаете?
— Фамилия и звание! – упрямо поджав губы, повторила Аня.
— Молчать! – возвысил он голос. – Прикрыла свой рот…
— Вот что, товарищ «Бобрик», — с убийственным спокойствием произнесла она, глядя прямо в глаза хаму. – Если вы намерены продолжать в таком же духе, я не произнесу и слова. Буду сидеть как пришитая.
Он округлил глаза, которые на поверку оказались стально-серые. Хмыкнув, обрушился своим тяжёлым телом на стул. Здоровой лапищей сграбастал трубку аппарата без наборного диска.
— Алло! Дежурный! Тут у меня это… одна девушка оказалась случайная, то есть с улицы, — сказал он как можно суше в микрофон. – Зашла и села. Никак выпроводить не могу. Вы там что, спите или как? А?.. Что?.. Не знаю… Ни! Документов никаких нет. Судя по всему, и не было никогда. Где живёт? – удивлённо поднял он брови. – Где проживаете, гражданочка? – обратился он к ней, не глядя в глаза.
— На Луне, — бросила она небрежно.
— Говорит, что на Луне. Да, шкодит или хамит – это кому как… Что? Ладно…
Он осторожно положил трубку на рычаг. Почесал у себя за ухом. Аня почесала кончик носа.
— Вот что, красотуля! – сказал он развязанно-весело. – Доигралась ты со своим весельем! Это надо же — на Луне она… Дочь врага народа, а туда же – на прынцып идёт!
— Ведите себя прилично…
— …И подхватят тебя под белы ручки, и повезут тебя туда, где небо в овчинку тебе покажется, — он встал и, усмехаясь как Кашей Бессмертный, стал потирать мослы. – Посидишь ночку в камере, успокоишься…
Как назло в открытую форточку ворвался рокот мотора, который оказался громче других.
— Если чего надо передать родственникам или близким, шепчи быстро, — снизив голос, внезапно сказал он. – Не сомневайся, я передам…
Вот-вот, подумала Аня. Вот так он меня хотел поймать.
— Я ещё раз убедительно прошу вас – вести себя прилично, — сказала она совсем уверенно. В добавок ко всему, достала из сумочки зеркальце и осмотрелась. – Если я, как вы изволите выражаться, задержана, то на каком основании? Кто вам дал право так со мной разговаривать, товарищ лейтенант? Я, как и вы – служу делу Ленина-Сталина. Я, как и вы, живу в советской стране. По советским законам. Какой из них я нарушила?
«Бобрик» открыл было свою челюсть, но говорить ему не пришлось. Дверь без стука отворилась. Вошёл низенький плотный человек в темно-серой чесучовой паре, с галстуком тёмного рисунка. У него были аккуратно подстриженные полуседые усы. В руке он держал злополучную повестку.
— Ваша? – он нетерпеливым движением указал лейтенанту на стул.
— Я не вижу, что там написано…- Аня пожала плечиками в синей блузке.
— Ага…- усмехнулся «бобрик». – Не видит она, бедненькая! Очки дорогой обронила…
— Прочитайте!
Она взяла несмелыми пальцами серый листок бумаги. Буквы типографского текста прыгали у неё перед глазами, стремясь попасть в мозг сквозь дырку в голове. Крыжова. Анна Павловна. Всё верно… 1920 года рождения. Явиться… Тут она подавила в себе гомерический хохот. Какая ж ты дура… Число проставлено сегодняшнее, а год – 1942, а не 41-й! Год грядущий…
— Всё понятно? – обратился к ней седоусый.
— Пока не очень, — призналась она.
— Что не понятно? Спрашивайте!
— Что я буду целый год делать? Ждать?
«Бобрик» шумно хмыкнул. Утопив голову в плечи, продолжать тянуть губу и относиться к ней как к забредшей с улицы. Аня на мгновение вспомнила деда-Саблина. Похвалила себя за память. Интересно, как к нему и таким, как он, тут относятся? Если только…
Крайним зрением она уловила, как на столе со стороны усатого появился небольшой предмет глянцевой бумаги. Это была фотокарточка размером три на четыре. Знакомое лицо начинающей стареть женщины в седых старомодных буклях о очках на цепочке, с изящной дужкой…
— Вам знакомо это лицо? – спросил «усы» с изменившейся, смягчённой интонацией.
— Может быть… — Аня всё больше и больше поражалась своей находчивости.
— Здесь отвечают только да или нет, — в голосе «усов» зазвучали дребезжащие нотки.
— Напоминает нашего завуча, — улыбнулась Аня. – Во всяком случае, похожа на неё.
— Имя, отчество, фамилия?
— Моё?
— Завуча!
— Октябрина Львовна Октябрьская.
— …Вам известно, что эта ваша Октябрьская – арестована по обвинению в шпионаже? – «Бобрик» наконец ожил и перешёл на вы. – Что на первом же допросе она дала письменные показания, уличающие группу преподавателей и учащихся школы НКИД в пособничестве шпионам и вредителям?
Так-так, пронеслось в Аниной головке, обрамлённой льняными локонами.
— Впервые слышу об этом от вас, — ответила она. – И никакая она не моя, эта ваша Октябрьская.
— Ещё бы! – хмыкнул в который раз «бобрик», пропуская мимо ушей другое прочее. – Вам положено знать только то, что полагается, — видя, что на Аню это произвело впечатление, как на слона укол булавкой, заторопился продолжить: – Вас не смущает, что в числе всех прочих Октябрьская показала на вас, как на активного помощника в шпионской деятельности?
— Не смущает, — у Ани снова пробежал лёгкий холод по коленкам. – Чужие фантазии меня не смущают.
— Странно, — «бобрик» забарабанил по столу указательными пальцами. – Очень странно… Советская девушка! Комсомолка, отличница… Может ты советскую власть не любишь, Крыжова?
— Это не вам судить, — отрезала девушка, успокаивая гнев, что было разлился горячим гноем по её груди.
— Ошибаешься! – он встал, правда, менее шумно, чем в прошлый раз. Подошёл к ней. Опёрся ручищей о спинку стула. – Этим ты выдала себя, Крыжова. С головой! Кому, как ни мне, сотруднику органов госбезопасности, судить о твоей политической принадлежности! Провал за провалом…
— Бобриков, сядьте…
Аня чуть вздрогнула. А «бобрик», он же Бобриков, и вовсе сжался. Он, побледнев, вернулся на место. Тут на столе спасительно грянул телефон без наборного диска. Уловив разрешительную интонацию усатого, Бобриков схватил трубку.
— …Как это в отказ идёт? – рявкнул он. – Что опять? Все прежние показания?.. Ну, я ему, поганцу…
— Лейтенант Бобриков, — усатый, не меняя положения, обратился к нему. – Спуститесь и разберитесь. Подробно доложите через час. Уговор не забыли?
— Так точно, — смутился лейтенант.
— Идите и не забывайте…
Когда сопящий от обиды Бобриков не замедлил выйти, одёрнув стоящую колоколом гимнастёрку, в кабинете наконец установилось мирное затишье. Усатый поправил фотокарточку, выложенную на стол его предшественником и подчинённым. На Аню он или не смотрел вовсе или наблюдал украдкой.
— Вы ещё здесь, Крыжова? – наконец заметил он. – Я же позволил вам уйти.
— Да, здесь, — упрямо сомкнув губы, ответила девушка. – Зачем эта комедия в Шекспировском жанре?
— Какая комедия? – подбитая сединою бровь усатого обозначилась ввиде подковы.
— Какая?!? С годом на повестке? С этим старичком, что поджидал меня в приёмной? С этим бобриком или бобиком…
Усатый хитро улыбнулся. Немного растерявшись, он указал пальцем на фотографию Октябрьской.
— Будем считать, что эту комедию, как вы изволили выразиться, затеяла эта особа, — улыбнулся он. – Ныне безвредная… Теперь идите.
— Куда? – округлив серые глаза, глупо спросила Аня. – Домой? Насовсем?
— Домой, насовсем…
Аня встала, на этот раз не раздумывая. Поправила на белокурой причёске белый же фланелевый беретик. Из глаза предательски выкатилась скупая слеза, которую она в тот же миг затёрла неуловимым движением. Неужели не спросит, неужели не знает…
— Крыжова! – раздался тихий голос. – Повестку возьми…
Она буквально вылетела из кабинета. Давя в груди запавший глубоко смех, пробежала по ворсистой дорожке. Остановилась… Дверь в кабинет № 33 так и осталась полуоткрытой. Оттуда раздался телефонный звонок. Вскоре сердитый голос усатого сказал: «Опять ты! Слушай меня внимательно! Ещё раз позвонишь…» Донёсся приглушённый смех, после чего усатый положил трубку на рычаг.
Не помня себя и потеряв чувство реальности происходящего, она сбежала по удивительно пустым лестничным пролётам в мраморный зал дежурной части. Сидящий в фанерной будке за коммутатором дежурный потребовал предъявить документы. Она сунула серый листик с росписью и была отпущена. Пройдя несколько шагов по мраморной плитке коридора, стеленной ковровой дорожкой, Аня взялась рукой за вычурную бронзовую ручку. Тяжёлая дверь послушно поддалась и… Девушка, пройдя три ступени, вышла из мрачного серого углового портала в лучи июньского солнца.
…Мимо пронёсся красно-жёлтый открытый трамвай с искрящимися «усами» на проводах. Сновали легковые ВАЗ-61 и «эмки» с кубиками на капотах. Одна авто притормозила рядом с ней. Голова весёлого шофёра в синей форменной фуражке спросила:
— Тебе куда, красавица? Сеньора или ещё сеньорита? Гражданочка, наконец! Постой же… За трёшку куда хошь довезу! Да ты не сомневайся, красавица. Я девушек не ворую.
— Спасибо, я очень рада.
— Обижаешь! Я ж тебе ни поп какой. К девушкам, к красотуля таким, само собой, не равнодушен. Как звать? Аня? Люда?.. Может тебя в церковь подбросить? Так тут рядом, на Коммунарах…
Аню понесло через трамвайные пути. Опять – к дверям Управлению НКВД по Краснодарскому краю и Краснодару. Будто там ступеньки были намагниченные. По пути едва не сломала каблук: трамвайные рельсы были постелены прямо на старорежимной брусчатке, которая, по всей видимости, ещё не забыла цокот конки, экипажей, а также копыт конной жандармерии и казачьих сотен. Ворота по пути следования, с торца НКГБ, со скрежетом распахнулись. Оттуда выехала грузовая ГАЗ с сине-серым кузовом «мясо». В кабине сидело двое водителей в кепках, но Аня твёрдо знала: так возят на допросы из предварительного заключения и обратно в тюрьму.
…Она не знала, что в этом автозаке, прозванном в народе «воронком», везли с допроса Толю Очагова. С ним работал в оперативной связи майор Бобриков, что не так давно, за не имением других, более подготовленных кадров, числился в должности зам начальника секретно- политического отдела.
Следуя какому-то неясному позыву души, девушка прошла мимо портала на углу Управления. Следуя вдоль мрачно-серой, отштукатуренной стены с рядами окон в белых рамах, задёрнутых, как правило, непроницаемыми шторами, она вышла с Коммунаров на улицу Советскую. Там, через другие трамвайные пути, действительно была уютная церквушка из красного кирпича, за кирпичной же оградой с золотоглавыми куполами. Звонил колокол к обедне.
Не долго думая (вернее, не думая вовсе), Аня вошла, негромко цокая каблучками своих белых открытых туфелек, на церковный двор. В киоске, где очередью стояли замшелые старухи в аккуратно повязанных платочках, продавались свечки, иконы, лампадки и прочая утварь, так необходимая для морально несознательных граждан и гражданок, с упорством продолжающих верить в религиозное мракобесие. Но Аню это более не волновало. Незаметно оглядываясь по сторонам, она подошла близко к самой крайней старушке в синем ситцевом платочке.
— …Ай-яй-яй! А ещё комсомолка! – донеслось ей вслед на выходе.
Аня оглянулась. Группе парней и девушек она демонстративно показала язык.
* * *
— …Надо действовать решительно! – убеждённый в решительности всех действий, толковал по-своему программу «Антисталинского союза» Саша Скрябин, которому опостылело вконец «программное милосердие» к семьям тех, от кого отвернулись окружающие после визита серых кепок и плащей. Его родителей, после командировки в Веймарскую республику в 30-ом, осудили по «экономической статье» за хищения, а также по 58-10 УК РСФСР (за антисоветские разговоры). – Товарищи! Надо действовать по-революционному – быстро и решительно! Так учил товарищ Троцкий! Даже беспощадно. По боевому беспощадно. В частности, по вопросу о трудовых лагерях. По-моему, их надо расширить. После свержения сталинской тирании мы говорим нет массовым репрессиям, но вместе с тем произносим своё решительное да массовым чисткам. Социалистическое общество нуждается в том, чтобы его чистили от таких контрреволюционных элементов как Сталин.
— И Гитлеров не мешало бы…
— Ну, это ты брось! – парировал, ни глядя, Саша. – Гитлер нам пока что нужен! Конечно, он империалистический зверь и человеческий подонок. Опирается на власть мировой олигархии. Но! Вместе с тем, Ленин и Троцкий учили нас тому, что за стол переговоров не грех и с дьяволом сесть. А как же! Ради достижения поставленных целей! Миллионы погибнут – миллиарды выживут! И построят коммунистический рай!
— Так я не понял: ты что же – предлагаешь нам принять сторону «шаг вперёд два шага назад»?
— Это как это? Поясни!
— А так: не мешать Адольфу Фюреровичу сокрушать наш социализм в отдельно взятой стране…
— Ну, заладил! Наглотался сталинских лозунгов. Тетеря! Помнишь такую работу Ильича «О национальной гордости великороссов»? В ней говорится о том, что ради достижения цели мировой революции можно и нужно желать поражения России в войне с Германией.
— Так то о самодержавной России говорится, а не социалистической. Понимать надо!
— Один хер! Опять ты Сталину подпеваешь! Выблядку грузинскому… Какая-такая социалистическая у нас с тобой Россия? Ты соображаешь или нет? Придурак! Сталин отказался от идеи мировой революции, выслав Льва Давидовича в Мексику в 27-ом году! Сталин трусливо приказал убить товарища Троцкого своему гавнюку! Этот агент охранки выдвинул ревизионистский лозунг Карла Каутского, Розы Люксембург и Карла Либкнехта: построим социализм в одной стране. Да кому он нужен в одной стране!?! Скажи мне, кому?
— Нам! Тебе, мне. Вон – Людке Пономарёвой да Ане Крыжовой. Что б замуж вышли, детей рожали…
— А это вообще мещанские заблуждения! Уход от реальной жизни в слащавую патоку! Нормальной жизни ему захотелось! Ха-ха! Хо-хо!
— Вот над собой и посмейся! Раз над другими горазд…
— И посмеюсь! А что ты думаешь? Мы, революционеры-троцкисты, не боимся критики. В отличие от сталинских прихвостней и прочих морально-нравственных уродов, мы и самокритики не чураемся. Ясно?
— Пень-то ясный. Только вот что… Ты про уродов говорил – на кого намекал?
— …Ладно! Бросьте собачиться, ребята! Надо выработать программу минимум на ближайшее будущее. По-моему, война не за горами. Либо мы воюем с Германией против Англии, освобождаем колонии в Индокитае и Африке от континентального гнёта этой империи. Либо… Я даже не хочу прогнозировать этот второй вариант. По-моему Гитлер нас разделает под орехи.
— Ты что, грёбнулся? Под какие под орехи? Да у нас самая сильная армия! В кинохронике видел сколько танков, самолётов, пушек? Столько тяжёлой артиллерии ни у кого нет! А плавающие танки – Т-37 А? Знаешь про такие? Мне дядька по секрету, незадолго до ареста сказал: по данным нашей разведки ни у кого в мире столько нет! Вообще ни одного! А у нас – целых четыре…
— Учи дурака Богу молиться, так он весь лоб расшибёт! Я ему про Ивана, а он мне про болвана! При чём тут количество? Сталин перебил большую часть командных кадров, взращённых товарищами Троцким и Тухачевским! Как теперь без них? Легендарных комкоров, комбригов и даже комэсков? Да никак! Есть цепь да нет связующих звеньев. Гитлер так сказал: Россия это – колосс на глиняных ногах. Из Библии! Ветхий Завет…
— А ты откуда знаешь?
— Читал! Отец заставлял. Надо знать оружие врагов, что б им же… Маркс говорил: религия это – опиум для народа! Не яд же!
— Какой ты умный, Сашенька! Прямо оторопь берёт…
— Подожди, Людка! Откуда ты знаешь, что Гитлер сказал?
— Тебе-то что? Сорока-белобока на хвосте домой занесла. Пока гулял…
— А про самую сильную армию… На Карельском перешейке что вышло? Месяц мудохались – одно предполье взяли! С такими потерями! Мне рассказывали: обмороженных и раненых тысячами в Ленинград свозили! А Европу чего Гитлеру уступили? Чего, спрашивается, если такие сильные? Очко заиграло у усатого! Вот что! Боится он Гитлера!
— Верно Толян говорит! Подписываюсь! Стоило нам Плоешти да озеро Балатон в Венгрии захватить раньше фюрера – вермахт без горючего бы остался! Такие вот пироги, кот Вася!
— А, по-моему, чепуху вы городите, мальчики! А фюрер ваш – кровосос и убийца! По нему верёвка плачет! Он все народы объявил неполноценными кроме своего германского. Это как это? Получается что – я, Люда Пономарёва, по нему есть неполноценная? Дурочка что ли? Сам он придурак в таком случае! Что б он в сортире потонул…
— Ну, про неполноценные народы признаю – тут он действительно загнул! Но про всё остальное… И партию свою назвал правильно – национал-социалистическая рабочая партия! За рабочих! И блицкриг он правильно просчитал: рабочие всех стран объединились и помогли ему одолеть своих капиталистов! А Сталин его боится! Поэтому и заключил с ним пакт о ненападении. Но ничего! Скоро терпение фюрера кончится и…
— Что «и…»?
— А то, что будет тоже, что и в Европе. При первом же германском солдате или танке, перешедшем за нашу границу, наши пролетарии и беднейшее крестьянство в красноармейских гимнастёрках воткнут штыки в землю. Хотя нет! Прежде обратят их против угнетателей: сталинских комиссаров и чекистов. Вместе с доблестной армией фюрера германского народа мы наконец освободимся от власти этой сталинской шоблы…
— Верно, Толян! А то что это у нас – самодержавие царское возрождается? Слух идёт из авторитетных источников: скоро в Красной армии погоны вводить начнут. Золотые, со звёздочками. Как при царизме!
— Ага! Лампасы в кавалерии уже ввели! В Киевском округе формируется Донской корпус: у все красных кавалеристов красные лампасы на синих шароварах! Ещё бы нагайку в руки! Генеральские звания уже вернули! Как при Николашке Кровавом. Ещё одно свидетельство – на охранку сексотил усатый…
— Так что, ты предлагаешь Гитлеру служить? Верой и правдой? А если не весь народ это дело примет? Что с народом будешь делать?
— Вредных элементов, холуёв сталинских – за колючую проволоку. Без разговоров! У Гитлера соответствующие лагеря есть! Писали в нашей же прессе, что рейхсфюрер СС Гиммлер показал иностранным журналистам концлагеря, и те удивились приличному содержанию заключённых и гуманному к ним отношению охраны. Не то, что у нас! Сошлют на Север, в Заполярный круг! У них три лагеря концентрационных, под Берлином! Пиво, сосиски дают. И дворик мести велят!
— Так говоришь, будто сам там бывал!
— На экскурсию не отказался бы!
— То-то что на экскурсию!
— …Сын за отца не отвечает! – выкрикнула Зина Кириенко, у которой мать во время гражданской войны служила в Тамбовской ЧК, приводя в подвалах в исполнение расстрельные приговоры. В Великую Чистку её «подмели». – Что-что, ребята, а это нас действительно охраняет. Если, конечно, не идти на прямую конфронтацию!
— Нас превратили в безмолвствующих животных, пустое скопище, послушное стадо. Я имею ввиду не здесь присутствующих, — Сашин палец мгновенно скользнул за открытое окно, — но там! Их ведут как на бойню, а они послушно прутся! Пускай! Естественный отбор, как учил старина Дарвин! Лучшая акушерка мировой революции! А нам нужно как никогда помнить о конспирации. Организовать боевые группы на базе уже созданных «троек» и «пятёрок». В преддверии освободительной войны делать мины и гранаты, в крайнем случае бутылки с зажигательной смесью. Короче говоря, с первыми шагами германского пролетариата по нашей земле вести против диктаторов и диктатуры самую настоящую вооружённую борьбу! Конечно, как умные люди мы должны постепенно заручаться поддержкой лиц из числа нам сочувствующих в ещё сталинском, партийном и военном аппарате. Они уже сейчас сомневаются в правильности существующего строя и ведут свою тихую, пока ещё тайную борьбу…
— Ага, поведёшь ты! – хихикнул Игорь Николаев, худой веснушчатый юноша, вечно поправляющий, большие никелевые очки на курносом, сплюснутом носу. У него в 34-ом «бесследно исчез» младший брат, рассказавший в компании сокурсников-студентов краснодарского пединститута анекдот про первую брачную ночь Сталина с Аллилуевой: «как Иосиф хотел, Надежда помогала, а у Бухарина всё вышло». – Враз прихлопнут! Как мушку плодово-огородную! Да, я понимаю: можно звать народ на борьбу с царём-угнетателем, который его, народ, явно и открыто угнетает! Но… как позовёшь на борьбу с этой тиранией? Когда у них, на словах всё – для нас! Всё для народа! На словах, а на делах…
— Надо учиться не бояться самим и учить этому других, ребята. Это очень просто. Оч-ч-чень даже просто, если вспомнить как распространяли свои прокламации по сёлам и долам народовольцы. Так и нам следует! Засесть за печатную машинку, запастись копиркой…
— Да что ты говоришь! Все писчие машинки – на учёте в милиции состоят. Не знала? В райотделах НКВД – учётные листы хранятся с оттисками шрифтов! Участковый уполномоченный в своё время ходил – сам оттиски делал…
— Вот сволочи! Тогда да, быстро вычислят.
— Стоп! У нас речь о доверии зашла! О стукачах и тому подобное… Так вот, смею вас заверить, ребята – нам стукач не страшен! Свои люди в органах имеются, преданные делу Ленина-Троцкого. Так и знайте! Нам всё известно о кажном, кто к нам приходит и кому мы доверяем. Сколько проверок и конспиративных встреч прошёл каждый из нас, прежде чем стать полноправным членом нашей пока ещё подпольной организации! Вот то-то! Но на этом, хочу я вам сказать, контроль не закончился! Он будет следовать за вами всегда! Он вездесущ! Как незримое око! Он…
— А что ты вдруг о других речь завёл? Другие, другие… Сам-то ты сколько проверялся?
— И потом – среди нас есть новенькая. Вот… Аня Крыжова. Сколько её проверяли твоим контролем? Прежде чем…
— Успокойтесь-успокойтесь! – Толя Очагов, молчавший всё совещание руководителей «пятёрок», предупредительно развёл руками. У него отца осудили по 17-58-18 УК РСФСР (за измену). – Можно скрыть всё, что угодно, окажись в коллективе случайно спаянных людей. Но спаянных идеей единого контроля! По Крыжовой хочу сказать: она находится вне подозрений. Наши люди в партийных и чекистских органах просигнализируют если что. Но… Пока всё железно! Хотя, на всякий случай, думаю, стоит поручить ей какое-нибудь пикантное задание. Лёгкую экспрессивную проверочку! Помните, как поступил такой революционер Нечаев? Не помните! Плохо! Для проверки одного неустойчивого товарища заслал к нему своих людей в жандармских мундирах. Те повязали его и повезли якобы в крепость. Тот и раскололся. Назвал всех! И был покаран своими товарищами. Так вот, ставлю на голосование. Кто за? Не вижу рук! Пономарёва? Да-да, к тебе относится! Вот теперь молодца! Принято единогласно…
Этим же вечером Аня ощутила внезапную перемену в отношении к себе со стороны соседей. На неё будто боялись смотреть. Здоровались все торопливо, пряча глаза. Тётя Дуся нарочно громко стучала шваброй и гремела цинковым ведром, бормоча что-то вроде: «Живут тут всякие – ни проходу, ни проезду от них нету си…»
* * *
…Была осень. И была война. По Краснодару привычно носило красные и жёлтые листья, опавшие с деревьев. Дворники сметали их в размеренные кучи. Затем вволю накурив и наговорив, поджигали. Город наполнялся ароматом белёсого и жёлтого дыма сжигаемых листьев. Такого незабываемого, такого неповторимого. Но повсюду, в глазах дворников, редких прохожих в гражданском и частых в военном, коричневато-сером обмундировании, в каждом сожжённом и сжигаемом листочке в струйках синего и рыжего пламени (словно повинуясь чьей-то команде, он сгорал, весело скручиваясь в обугленную трубочку) – везде зримо и незримо жила война.
Война… Которую никто не ждал. Однако, как выяснилось позже, ожидали и предвидели все, от мала до велика. Оказывается, в неё никто не хотел верить. Она своим видением разрушала веру людей в счастливое будущее. Притом, что такое одинаковое для всех счастье каждый из нас понимает по разному.
Война… Но прежде было 22 июля 1941 года с незабываемым обращением Молотова к советскому народу. А позже – потрясающие слух «братья и сёстры!». Так начал своё выступление Сталин. Собравшийся у чёрных радиотарелок народ, приникший к радиоприёмникам обыватель не ожидал такого от вождя-коммуниста и вроде как атеиста, если не безбожника.
От дяди Гриши шли письма. Сначала из Монголии, затем из Москвы, где он до конца августа числился в распоряжении отдела кадров при Управлении автобронетанковых войск РККА. Поначалу в них оптимистично освещались бои на границе. Выражалось бурное сожаление, что его сын Юрка не успеет «очень даже досрочно» выйти с лейтенантским кубарём в чёрной танковой петлице из училища, чтобы, платя «смерть за смерть, кровь за кровь уничтожать немецких гадов-фашистов до самого логова – Берлина». Аня вспоминала другое: тихий шепоток тёти Вали при кухонном разговоре, где Настасье Филипповне говорилось о стремлении ряда высших руководителей нашей армии следовать с германскими войсками и их союзниками до Индийского океана, неся свободу народам Индии, Африки и Китая. «…Двух дивизий хватит, что б до Гималаев дойти! Наши танки англичашек быстро сомнут. Тем более, Настюха, их части в основном колониального комплектования – из туземного населения. Те вообще сражаться не будут. Лапки задерут…»
В те далёкие предвоенные недели, когда ещё думать не хотелось о несчастье, постигнувшем весь советский народ и весь мир, Аня пережила состояние Данте. Будто бы вместе с ним её сначала пропустили через ад, затем через чистилище, а затем… Но чтобы попасть в заветный рай, встретив свою половину, ей вскоре пришлось пройти через испытания куда более страшные. После того, как она вышла целой и невредимой из тяжёлых дубовых дверей Управления НКГБ по Краснодарскому краю, жизнь стала подобно грозовой туче. Ни светлого пятна, ни даже лучика света по началу не было. Вокруг себя девушка ощутила вмиг непроницаемую стену. Люди, даже после ареста отца и его срока в лагере, относившиеся к ней с известной долей тепла, вдруг проявили себя с другой, неприятной стороны. «…Эй, шлендра! – звучало ей вслед от мальчишек, лупивших по мячу на пыльном поле. – Чапай, чапай! А не то мячиком по кумполу так заедем, что и не встанешь!». Группа подвыпивших молодых людей на набережной, одетых по последнему писку моды, попыталась к ней приставать самым бесцеремонным образом. Один из них в светлом костюме материала «Бостон» остановил такси. Попытался почти силком усадить её. Она в сердцах заехала ему по лицу сумочкой. «Товарищ постовой, хулиганка меня травмировала! Прошу вас снять побои…» Аня к своему удивлению заметила на противоположной стороне улицы блюстителя порядка. Он стоял, упрев руки в боки. Нахмурившись, качал головой в белоснежной фуражке. Но никаких действий, чтобы обуздать зарвавшихся хулиганов, не предпринимал.
В доме, где она жила, проживали сплошь семьи советских, партийных работников, а также военнослужащих РККА в званиях не ниже полковничьих. У всех была домашняя обслуга. Родители ездили на служебном транспорте. Нередко на нём возили детей и жён, хотя это строжайше запрещалось. Аня, наблюдавшая жизнь отца и его коллег по НКИД, видела существенную разницу. Даже семьи, где кто либо из родителей подвергся в 37-ом, 38-ом и 39-ом репрессиям и не был реабилитирован, порой существовали безбедно, оформив законный развод. Но дети из этих семей, именовавшихся в учётах НКГБ как РВН, вели самую активную подрывную деятельность против режима. В этом Аня убедилась на примере «Антисталинского союза».
После визита в серый дом на Советской, 7, она ощутила букет разных чувств. Помогло посещение церкви, что была неподалёку. Она, по совету одной сердобольной старушки в синем ситцевом платочке, поставила свечку против иконы Святой равноапостольной Анны, своей небесной покровительницы. Затем три раза перекрестилась щепотью из трёх пальцев. Отвесила земной поклон, коснувшись пальцами земли. Внезапно всё вокруг осветилось ясным, неземным светом. Люди в храме были наполнены этим небесным сиянием. Самые старые из них показались ей помолодевшими и прекрасными.
С этого момента она поняла: всё будет хорошо несмотря ни на что и вопреки всему. Даже если люди в красных фуражках с синим верхом впихнут её в обрешётчатый кузов «чёрного воронка». Даже если бессовестный судья, подобный тому, что осудил её отца, впаяет ей срок от 5 до 10 лет. Однако в памяти тот час же возникли иные образы. Дегенеративного «Бобика» тут же вытеснило умное лицо «усатого», его тёмно-карие глаза, которые стремились помочь, а не покарать. Ей показалось, что за витой колонной храма мелькнула хитрая физиономия деда Саблина. Растолкав под недовольные охи и вздохи крестящихся старушек, она опрометью бросилась туда. Но Саблина, если он был, давно уж и след простыл.
С ребятами из «Антисталинского союза» отношения также установились своеобразные. Ей время от времени звонили. Спрашивали о том, о сём, где была и как провела день. Пару раз приглашали на встречи. Но там, куда она приходила, её не ждали. Либо в квартире никого не было. Хотя иной раз чуткое девичье ухо слышала похрустывание паркета. Людки по странному мановению обстоятельств не оказывалось дома. Её бабушка, суровая грузная старуха в парике с седыми буклями, передвигавшаяся исключительно с тростью и носившая на мясистом носу пенсне с золотой дужкой, сурово и неизменно отвечала, приоткрыв дверь на цепочке: «Нет дома. Не изволила предупредить, когда её ожидать». В добавок ко всему вечерами Аню стали донимать странными звонками. Она снимала трубку телефонного аппарата. В мембраны наушников проникал чей-то шепот. С ней никто не разговаривал.
К концу третьего дня своих мучений, чувствуя себя совершенно разбитой, Аня посмотрела на маленькую бумажную иконку своей святой. Поцеловала её. Затем уверенно сняла трубку. Набрала на диске четырёхзначный номер дежурной части НКГБ.
— …Дежурный по управлению капитан госбезопасности Крутиков. Говорите!
— Я это… Простите… — сбилась с мыслей Аня.
— Говорите яснее или не занимайте линию, — сурово огласил ей правила игры мужской голос.
— Я прошу вас передать одному человеку. Он заходил в 33-й кабинет насчёт повестки на имя Крыжовой Анны. На нём был коричневый костюм… усатый, приятный…
— Что ему передать?
— Передайте, что Крыжова готова к встрече. Пускай даст знать когда и где.
— Принято! Есть…
Не помня себя, девушка осторожно возложила чёрную трубку на рычаг. Будто та была из горнего хрусталя.
Утро следующего дня стало для неё днём нового рождения. Она встала ровно в 6-00. В пижаме выскочила на балкон с узорной оградой. Отчего-то ей захотелось сказать на весь свет что-нибудь хорошее. Она и сказала: желаю всякому живому существу счастья и здоровья. Сказала и порадовалась. Затем совершила пробежку на правый берег Кубани. Искупалась в прохладной синей воде.
Мальчишки из соседних дворов, чья плотная ватага устремилась на песчаный пляж, на этот раз вели себя иначе. Помявшись, они расступились, дали ей пройти. Ничего обидного вслед себе она не услыхала.
Дома на шифоньере предательски брякнул телефонный аппарат. Снова молчание. Чей-то задавленный вздох. Аня в ответ на это рассмеялась и положила трубку. Через час снова звонок. Аня, уже одетая, сняла трубку. Принялась читать неизвестному поэму Александра блока «Двенадцать». Трубку тот час же положили. «…Чёрный ветер. Белый снег…»
Она уже собиралась замкнуть дверь, как ощутила позади себя чьё-то присутствие. Оглянулась. Так и есть. На лестничной площадке, не дойдя одну ступеньку до клетки, стоял Шпигель. Собственной персоной. Всё та же трость. Всё та же любезная улыбка. Вежливый полупоклон…
— А вы молодец, Аня, — сказал он. – Даже больше молодец, чем я ожидал.
— Вы думаете? – ощутив лёгкий холодок, она всё же замкнула дверь на два оборота. Поправила волосы, уложенные косой вокруг головы. – По моему вы слишком быстро выучили русский язык.
— Я знаю. Это наверняка покажется вам смешным, но… Мы можем переговорить у вас?
— Опять будете ждать Люду? Которая, кстати говоря, сидела у себя тихо, как мышь. Вы все… ягоды одного поля?
— Мы так и будем говорить здесь? Русские, насколько я успел узнать, народ гостеприимный. Не так ли?
Немного подумав, Аня снова вставила ключ в замочную скважину.
— Что от меня нужно на этот раз? – она прошла в гостиную. Встала посредине у стола, крытого скатертью с вышивкой «ришилье». Шпигель таким образом лишался простора манёвра. Он был отжат к огромному шкафу морёного дуба с сервизом, с плеядой разнокалиберных слоников из фарфора.
— То, что мне нужно, так сразу и не скажешь, — начал он. – Во первых, ваш батюшка жив и здоров. Сидит в лагере под Архангельском. На тяжёлых работах больше не задействован. Его определили заведующим лагерной библиотеки. Я понимаю, в это поверить ещё более трудно, но… — видя расширяющиеся глаза девушки, он сунул руку за борт кремового пиджака. Извлёк листик клетчатой ученической тетради, который был исписан лиловым химическим грифелем. – Узнаёте почерк Павла Алексеевича?
Аня ощутила прилив нечеловеческой ярости. Ещё минута – она бы бросилась на этого фашиста. Выцарапала ему глаза. Так, что органам госбезопасности пришлось бы судить и её – за нанесение тяжких побоев германскому агенту.
— Можно вас попросить об одном одолжении? — когда Шпигель кивнул, она произнесла: — Выйдете за дверь. Никогда больше не донимайте меня. Вам ясно? Или повторить?
Тяжело вздохнув, немец спрятал «доказательство» во внутренний карман шикарного летнего костюма.
— Вы не дослушали, фройлен Анна, — она явно стилизовал свою речь под ранний период. – Ваш батюшка скоро будет освобождён. Но это первое. Теперь второе. Я и моя организация, — он улыбнулся, — не преследуем агрессивные цели. Фюрер конечно варвар, но он прошёл всю Европу. Из этого следует, что он нужен Германии. Как Иосиф Сталин – России. Вы ведь не пылаете любовью к вашему усатому вождю?
— Сейчас не знаю, — честно призналась Аня. Ненависть постепенно уступала место любопытству. – Когда отца арестовали и приговорили к десяти годам, я невзлюбила весь свет.
— Это проходит, — успокаивающе молвил Шпигель. Он сделал плавное движение рукой. – Ненависть плохой советчик. Вы умная и рассудительная девушка. К чему тратить себя на выражение низменных чувств? Вы не разобрались в себе, в своём предназначении. Вы родились в страшное и интересное время. Мы все живём потому что нам предстоит выполнить великую задачу. Поэтому произошла наша встреча, Аня.
— Можно узнать поподробнее? — Аня уже вошла в неизвестную пока роль. Отложив сумочку с косметичкой, мелочью на трамвай и читательским билетом, она прошлась по гостиной. На ходу включила громоздкий приёмник «Филипс». – Пока вы говорите загадками.
— В своё время, фройлен Аня, вы узнаете всё, — успокоил её вновь Шпигель, хотя в этом уже не было необходимости. – Пока ваша задача сводится к тому, чтобы наблюдать. Вы – лёгкое судно с распущенным парусом. Повинуйтесь ветру. Он вынесет вас к нужному берегу.
— Если я скажу нет? – Аня в упор посмотрела в его ясные, совсем не старческие глаза. – Что тогда?
— Вас придётся принести в жертву египетскому богу, — сурово произнёс Шпигель. В следующий момент он оглушительно рассмеялся. – Всё это глупости! – он прошёлся к приёмнику. Ощупав ворсистую обивку, поискал на настроечной таблице отметку Дрезден. На этой волне передавали лёгкую музыку. Затем зажигательный голос Ганца Фриче стал выдавать очередное сообщение министерства пропаганды: все атаки британской авиации отбиты с большими для неё потерями, урон германским городам причинён небольшой, дружбе между Германией и СССР ничто не угрожает. – Я не сторонник принуждения. Хотя многие у вас да и у нас считают его вторым после подкупа действенным методом. Надо проникнуть в душу. Завоевать доверие. Только через доверие кадры решают всё! – усмехнулся он. – Вы мне доверяете?
— А как вы думаете?
Раздался звонок в дверь. Дин, дон… На лицо Шпигеля легла лёгкая тень. Но Аню уже вынесло в коридор.
За дверью вопреки всем ожиданиям вместо усатого сотрудника НКВД или (что было бы совсем фантастика!) Людки Пономарёвой высился столбом военный. В синих бриджах с красным кантом. В защитной фуражке с красным околышем. В красных с золотом петлицах сияли помимо кубиков лейтенанта крохотные арфы.
— Дико извиняюсь! До Люды не смог дозвониться. Бабушка у неё то ли слепая, то ли глухая… может вы поможете?
— Чем? – удивилась Аня. – Дверь выломать?
— Да не… — хохотнул военный музыкант. – Это я и сам смогу. Бог здоровье дал. Советская власть ещё больше укрепила. Я вот о чём. Может вы, как подруга, скажите: когда она придёт и где её ждать? А то я на побывку прибыл. Трое суток. Боюсь, укатила в поход. И не свидимся.
— Что-то я вас впервые вижу, — усомнилась девушка.
— Да и я вас тоже, — последовал исчерпывающий ответ.
Аня жестом пригласила его войти. Он, не снимая фуражки, прошёл в гостиную. При виде Шпигеля совершенно не смутился. Зато с тем стали происходить «косые неясности». Задёргалось правое веко. Заходила ходуном трость в костистой, крепкой (Аня сама оценила его рукопожатие) руке.
— Вы знакомы? – она в пол-оборота встала меж ними. – Господин Шпигель. Турист из Франции. Тоже – знакомый Люды. Который уже день ждёт её…
Явно не ожидав такого поворота событий, немец прогнусил что-то вроде «будьте здоровы». С побелевшим лицом и трясущимися губами выскользнул из комнаты. По пути в прихожей задел трюмо – по паркету зазвенел «язычок» для обуви. Хлопнула дверь…
— Не обессудьте! – улыбнулась Аня. – Чем богаты, тем и рады.
— Да уж! – улыбнулся военный. – Счастливо вам, девушка.
Он сделал плавный поворот кругом на каблуках. Ровным, почти строевым шагом стал выходить.
— Совсем забыла… — не по девчоночьи хлопнула себя ладошкой по лбу Аня. – Стойте же! Он что-то предлагал. Хотел, рассчитывал… А ваш визит спутал все карты. Что теперь делать?
— Вопрос не ко мне…
Когда она выбежала на этаж, военного уже след простыл. Только хлопнула дверь в парадной. Да шумно взлетели голуби – это она слышала. Было 10 июня 1941 года. Шесть дней назад в сообщении ТАСС говорилось о провокационных попытках вбить клин между Германией и СССР. Казалось, ничто не предвещало угрозы.
Вечером, досидевшись допоздна в библиотеке, что напротив крайкома ВКП (б), она возвращалась домой. Решила пройтись пешком. Завидев издали чешуйчатый серебристый купол со шпилем, что высился на крыше УНКГБ, она неторопливо свернула с Советской на улицу Коммунаров. Несмотря на сумерки было многолюдно. В киоске «Союзпечать», освещённом высоковольтной лампой на столбе, вовсю торговали газетами, журналами, открытками. Рядом примостилась синевато-белая тележка с мороженым. Здоровенный рыжий парень в фартуке набивал вафельные стаканчики пломбиром, что вынимал металлическим стаканчиком с ложкой. Из открытого нутра тележки курился иней.
Аня примостилась к мачте освещения. И увидела усатого. В плаще из бежевой балони. Он стоял, как будто не видя её.
— …Кому нары, девушка? – сказал весёлый, развязанный проводник, когда они сели в трамвай: — Вам это нужно? Оплатите проезд.
Заскрипев и зазвенев, трамвайчик тронулся. Притихшие пассажиры слушали трепотню проводника. Он толкался, шумно сморкался. Один раз рассыпал мелочь на резиновый коврик в проходе. Кепка усатого маячила за платками и шляпой какого-то старорежимного субъекта с бородкой, в очках, напоминавшего Чехова. Аня лишь видела крупную белую руку и съехавшую манжетку, под которой обнажился кожаный ремешок с часами – он удерживался за поручни. Кроме того мимо Ани проскользнул парень в футболке «Динамо». Поминутно извиняясь, он подмигнул в пространство. Девушка с чертёжной папкой, в вельветовой курточке и брюках, в авиационном шлеме, тоже как-то ободряюще окинула её взглядом.
— Советскую-похерецкую проехали, дамочка, — не унимался проводник. Его широкое рябоватое лицо со сплюснутым носом хорошо было видно в тамбуре перед кабиной водителя. – На обратном пути остановочка будет! Ага! Спать не надо… Советская власть, понимаешь, на вас силы тратит. Одевает, обувает… нянькается, как с сопляками малыми, а они! Спят на ходу. Смотрите – всё проспите…
Трамвай со скрежетом занесло на повороте. Он нёсся вдоль набережной Кубани. Над Краснодаром сиял серпик молодой Луны. Его нижнее остриё мерцало красным светом. Это выглядело величественно и одновременно зловеще. Синевато-серая гладь Великой реки юга России переливалась красноватым узорным сиянием. Будто какой-то шутник на небесах или во вселенной с ЕЁ бесчисленными мирами о чём-то предупреждал человечество.
Внезапно Аня ощутила перемену. В вагоне кроме неё и пятерых пассажиров, не считая кондуктора, никого не осталось. Кондуктор что-то проворчал о безбожниках и атеистах, что заполнили всё пространство («…Ни продохнуть от них проклятых – воздух Богом сотворённый своим дыханием отравляют!»), позвенел мелочью в потёртой замшевой сумке. Он заметно нервничал. Его широкое рябоватое лицо с острыми зеленоватыми глазами принимало то выражение затаённого испуга, то становилось жёстким, даже агрессивным. Молодой человек в футболке «Динамо» явно загораживал ему проход к отдвижной двери в кабину. Его безволосая, распахнутая грудь плавно вздымалась. Рука с обозначившимся бицепсом цепко держалась за поручень. Двое других, постарше и тоже вьюнош, словно нарочно заняли выход из вагона. Они шумно переговаривались, словно желая выговориться перед последним днём Помпей. Усатого не было видно. Он как будто сошёл на повороте и растворился в сумерках.
— …Господи, святые угодники! Царица небесная, заступница матушка, — бормотала сидящая посредине, напротив кондуктора, женщина с крупными чертами лица. Повязанная домотканым платочком, в просторном сарафане, с узелком в руках, она напоминала казачку с кубанских станиц. – Не дай нам, грешным, пасть ниже, чем пали. Не попусти на нас глад и мор. Не дай нам войны…
Кондуктор, с минуту посопев, двинулся решительным шагом к кабине водителя. Молодой человек в футболке и не думал уступать.
— …Ай, яй, яй, как нехорошо! – усмехнулся кондуктор. Он стоял к Ане спиной, но она физически ощутила как напряглись его мускулы под шитой по-украински рубашкой с косым воротом. – Уступи место дяде – не маракуй!
— А это ваш рейс? — глаза юноши под кепкой, полузакрытые золотистым чубом как у Шуры Балаганова, подёрнула непроницаемая пелена. На губах блуждала холодная усмешка. – Что-то мне не нравится ваш почерк, уважаемый. Грубо работаешь.
— Не понял? Повтори для дяди.
— Фальшивишь, дядя. То и говорю. Не рыпайся – больно не будет…
Сзади, держась за поручни, сбавив на пол тона голоса, подошли те двое. Юноша лет двадцати в песочного цвета костюме, который он держал на руке. С сильной шеей, повязаной галстуком «павлиний глаз». И человек лет сорока, приземистый, широкоплечий. В мохнатой чёрной папахе-кубанке. В рубашке, перепоясанной наборным поясом. У него над губой топорщились чёрные, по-будённовски закрученные усы.
— Закон есть закон, — сказал юноша с костюмом. – Его надо уважать. А ты его преступил. Знал на что идёшь?
— Дайте пройти! -повысил голос кондуктор.
Он стал напирать грудью на «динамовца». Тот слегка поддался. Затем молниеносным движением перехватил руку кондуктора, зависшую на поручнях. В следующий момент она оказалась прогнута в локте. Кондуктор закряхтел, пытаясь освободиться из-под залома. Тогда двое других пассажиров включились в процесс. Юноша с пиджаком зафиксировал в заломе другую руку. Тот, что в кубанке, методично прощупал карманы брюк задержанного. Хлопнул по голове, что покрывала белая бумазейная кепка.
— Пр-р-ройдёмте, гражданин, — спокойно возвестил он. Затем, обернувшись к Ане, обратился к ней и женщине: — Граждане! Попр-р-рошу соблюдать спокойствие. Органы госбезопасности и уголовного розыска пр-р-роизвели арест опасного преступника, — он вынул из кармана галифе книжечку в коверкотовом переплёте. Показал на корешке золотые буквы НКВД СССР. – Вы и вы – пр-р-ройдите с нами! Будете понятыми.
— У меня муж дома не кормленный. И дети. Советская власть что – на мне прекратится? – возмущённо выдохнула женщина с узелком. Её крупное, не лишённое привлекательности лицо страдальчески сморщилось.
— Попр-р-рошу пройти! – усатого в кубанке невозможно было пронять. – На пр-р-роизводство сообщим…
В отделе НКГБ при линейном отделении милиции на станции «Краснодар-1», куда доставили арестованного, было не протолкнуться. Сновали заступившие на дежурство и сменившиеся с оного милиционеры. На деревянной, отполированной задницами скамье сидели трое помятых типов. От них за версту несло перегаром. Один всё время норовил горланить неприличные куплеты. Но моментально замолкал: сидевший у телефонов дежурный сержант показывал ему внушительный кулак. На одной костяшке краснела свежая ссадина. В добавок ко всему курился табачный дым. От него у Ани саднило в глазах. Но девушка терпела.
Из комнаты с дверью, что была обтянута коричневым дерматином на заклёпках, с номером «8», вышел усач в кубанке. Он снял её. Погладил залысую голову. Зачерпнул кружкой воду из оцинкованного бака.
— Вас, девушка, попр-р-рошу пройти! – громогласно заявил он. – У следователя будет несколько вопросов. Потом ребята вас подбросят на мотоцикле до дому. И вас тоже – не волнуйтесь…
Она смело прошла в кабинет. Там сидел парень, что держал костюм в руке. Теперь он был лишь в свежей фланелевой сорочке. С галстуком «павлиний глаз», что был повязан на ослабленный узел. Его смугловатое лицо с выразительными карими глазами не выражало у Ани никаких опасений. В добавок ко всему на «плечиках» висел его пиджак. На лацкане она заметила созвездие значков. «Ворошиловский стрелок», «Отличник ГТО», «Парашютный спорт». И – голубовато-белый ромб «Выпускник МГУ». Наверное с юрфака…
— …Что, нравится? – спросил он. – Хотите, небось, поступать?
— Хочу, — сомкнула губы Аня. – Спрашивайте…
— Разрешите представиться! – улыбнулся молодой человек. – Старший следователь уголовного розыска лейтенант Бобриков. Можно без регалий – товарищ Бобриков. Не Бобиков… – предупредил он её, открывая папку с бланками протоколов задержания. – Что ж, теперь колитесь вы. Фамилия, имя, отчество, год рождения…
У Ани на мгновение «в зобу дыханье спёло». «Каркнуть» она не успела да и не хотела. Молодой человек, занеся перо из чернильницы с зеленоватыми, окисными разводами, терпеливо ждал. Пришлось его уважить. Можно было, конечно, из вредности попросить его предъявить документы. Но зачем? Придумала тоже.
Она воспроизвела в деталях поведение своё и арестованного. Последнему вменялась в вину антисоветская агитация и пропаганда по известной статье УК РСФСР. При обыске у задержанного был обнаружен финский нож в билетной сумке. Надо бы это отметить в Анином протоколе. И приложить её подпись.
— Ничем вам помочь не могу, товарищ Бобриков, — она сделал едва заметное движение рукой. Пальцы коснулись нежного подбородка. – Я не видела никакого ножа. Как же я могу ставить роспись?
Следователь угро отложил перо. Размял пальцы.
— Вы меня удивляете, Крыжова! Это же враг! Матёрый! А вы? Эх-х-х… Я-то на вас понадеялся, — без зазрения совести цедил он. – Ладно! Где я теперь второго свидетеля найду? Я и оперработники – лица заинтересованные…
— А как же презумпция невиновности? Товарищ генеральный прокурор о ней говорил…
— Девушка! Жизнь это – живое древо! Диалектика материи. А все эти инструкции, кодекс и прочее – сухая ветвь. Её надо оживлять. И вот тогда…
— Что тогда? — Аня подивилась своей настойчивости, граничащей с нахальством.
— Да ничего! – внезапно резко оборвал он её. Придвинув вплотную папку с протоколом, как можно суше сказал: — Ознакомьтесь и распишитесь. «С моих слов записано верно, мною прочитано». На каждой странице…
Папка была раскрыта посредине. Какие-то конверты серой плотной бумаги, рукописные и машинописные документы и их копии, заверенные печатями и штампами прокуратуры, НКВД, НКГБ. И фотография – запястье с татуировкой ввиде креста с вогнутой нижней перекладиной. Наверное, это тоже относилось к задержанному.
— У вас брат есть? – бросила она ему на прощание.
Уши лжебобрикова тотчас же налились красным. Она так и вышла, не рискнув продолжить опасный разговор.
На остановке позади отштукатуренного здания вокзала стояло несколько грузовиков ЗИС. Освещённая фонарями рыночная площадь была пуста. Через навесной мост, что был над путями, шла толпа молодёжи с рюкзаками и гитарами. Юноша в белоснежных туфлях и сорочке со значком ВЛКСМ играл и пел: «…В парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир расцветает весна. Снятся мне твои золотистые косы…» Стоял у бордюра синий мотоцикл «М-73» с красной трафаретной надписью «милиция». А под столбом с радио- тарелкой Аня заметила уже знакомую женщину, что отказывалась идти в понятые. Она как будто изучала расписание автобусов.
— …Крыжова, стойте тихо. Не оборачивайтесь, — раздался знакомый шепот. Это говорил усатый чекист в плаще светлой балони. – Слушайте меня внимательно. Первое: ведите себя так, будто ничего не произошло. Со всеми прежними знакомыми контакты не обрывать. Ясно? Кивните! (Аня сделала едва заметное движение.) Хорошо… Теперь второе: ничему не удивляться. Не задавать никаких лишних вопросов. Я буду на связи. Если понадобитесь – найду вас сам. Если понадоблюсь я – звоните…
Вскоре она услышала за спиной скрип шагов. Усатый шёл к женщине, что изучала расписание автобусов. Постояв с минуту рядом с ней, обогнув здание вокзала, он пошёл к серому приземистому бараку, где расположилась камера хранения. Двое грузчиков в белых мятых фартуках, с металлическими жетонами, курили у входа. Он прикурил сигарету у одного из них. Скрылся в полутьме за клумбами цветов.
После 22 июня она ещё раз увидела Шпигеля. В рабочем пиджаке и рабочей же кепочке, изрядно небритый и донельзя неузнаваемый, он стоял в толпе, что окружала газетные стенды. Казалось, жадно вычитывал сообщения с фронтов в «шапках». Она молча проследовала мимо, не говоря ни слова. Он же, будто почуяв её присутствие спинным зрением, тоже не оборачиваясь, растворился в толпе.
* * *
Боброва направили из Ленинградского УНКВД по распоряжению самого наркома или товарища Берия. В Краснодаре он освоился довольно быстро. Переезд семьи с багажом занял куда больше времени, чем представление начальству, знакомство с оперсоставом секретно-политического отдела. В должности начальника оного при Управлении наркомата внутренних дел по Краснодару и Краснодарскому краю Сергей Владимирович и был направлен в столицу кубанского казачества.
Переезд и вступление в должность пришлось на начало марта – аккурат за два месяца до начала того, что в последствии называлось по разному. Великая Отечественная, вторая мировая, «всеевропейская война с большевизмом»…
Вплоть до 39-го Бобров состоял специальным корреспондентом газеты «Правда». Тогда же активно исполнял оперативные поручения по линии 2-го управления НКВД. Ездил в специальную командировку на места боёв у озера Хасан. Написать толком ничего не удалось. Потери с нашей стороны были в трое больше, чем у битых самураев. Его поразило большое количество искореженных Т-26 и БТ, которые нередко попадали под огонь советской же артиллерии. В брошенных японцами окопах то и дело находились трупы солдат и офицеров, кончивших жизнь согласно кодексу бусидо: надрезали себе живот. Наши бойцы и командиры рассказали молодому корреспонденту много интересного, также не для печати. Оказалось, что в бой они шли поздней осенью в летнем обмундировании. До этого ютились в землянках и палатках. Боевая подготовка в Особом Дальневосточном Краснознамённом округе проводилась из рук вон плохо. Многие из прибывшего пополнения так и не научились кидать гранаты – забывали выдёргивать чеку. Получилось то, что хотелось назвать «камнем да в свинью». По началу он дивился такой храбрости: по стране гулял 37-й год. «Ежовы рукавицы» наркома Ежова гребли всех подряд. На одного виновного приходилось десять, а то и более безвинных. Но цену такой храбрости он узнал также быстро: по возвращению в столицу куратор намекнул, что в должности заместителя «карлика» вступил новый человек. Бывший первый секретарь ВКП (б) Грузии – Лаврентий Павлович Берия. Человек принципиальный, порядочный и решительный. Своих карт ещё до конца не раскрыл, но грядут большие перемены. Может так статься, что «свято место пусто не бывает»…
Давно бы пора, с откровенным облегчением подумал Сергей Владимирович. Мысль он свою спрятал в себе. Не проронил ни слова. Лишь показал жене на портрет Ежова, что висел в гостиной. Та, многозначительно улыбнувшись, всё поняла. Защебетала о своём, женском. А чуть позже, когда состоялся «суд скорый и неправый» над маршалом Блюхером, что набросился в пьяном виде с топором на опергруппу, всплыли новые убойные факты. Мало того, что тот, оказывается, с 20-х годов был завербован японской разведкой, из-за чего Дальний Восток до 1922 года имел к РСФСР такое же как Китай к Монголии! Мало того, что тот запустил боевую подготовку вверенного ему округа, оставил войска без жилья и дорог, по которым можно подбросить подкрепления и грузы! Оказалось, что перед самым конфликтом у сопок Безымянная и Заозёрная случился крупный неприятный инцидент. За всю историю ОГПУ-НКВД не случалось ничего подобного! Начальник Дальневосточного Управления Генрих Самуилович Люшков попросту исчез. Отправился под предлогом агентурных встреч по приграничной территории округа и не изволил вернуться. Взял да и растворился в воздухе, надо полагать…
Для Ежова со товарищи, коими были его замы по НКВД СССР Фриновский, Дагин и прочая публика с далеко небезупречным прошлым, это был удар ниже пояса. Проверенный товарищ оказался вдруг если не шпионом, то натуральным вредителем. Вся агентурная сеть на Дальнем Востоке, казавшаяся безупречной, попала под удар. Такого Хозяин не прощал. Он предложил место всесильного наркома и комиссара госбезопасности на выбор: Чкалову, Герою Советского союза и военному лётчику-испытателю, а также Косареву, первому секретарю ВЛКСМ. «Карлик» (Ежов был не гренадёрского роста) ещё пребывал на своём посту. Ни тот ни другой не дали своего согласия. Сталин перевёл из Грузии в Москву Лаврентия Берия. Поначалу оставил его при столичном обкоме. Вскоре энергичный мингрел в пенсне, с за лысым лбом, смеющимися глазами одел чекистскую форму. Косарев к тому времени был осуждён за вредительство. Чкалов погиб при странных обстоятельствах. Говорили, что за час до полёта (испытывали истребитель И-180) на аэродром примчались чёрные лимузины. То ли с Лубянки от товарища Берия, то ли с Кремля от самого Сталина. Чкалова убедили не садиться в самолёт, что выведен из строя вредителями. Тот послушался и остался жив. На следующий раз, совершая неплановый полёт, Чкалов трагически погиб – во время полёта вышел из строя мотор…
Товарища Ежова без шумной помпы вскоре арестовали и судили как врага народа. Он был расстрелян. Его портреты (белозубая улыбка под коническим черепом) был изъяты отовсюду. Школьники старательно закрашивали наряду с другими фотографии Николая Ивановича. В феврале 1939 года Сергея Владимировича вызвали телефонным звонком в главное управление кадров на Лубянской площади. После процессов над Тухачевским, Уборевичем, Примаковым, последовавшим за ними расстрелов Блюхера и Ежова, он был в некоторой растерянности. Судя по опустевшим коридорам и множеству закрытых дверей всесильного наркомата, врагов в нём оказалось по первое число. Отказаться он не смел да и не хотел. Желание пришло и утвердилось, как будто Сергей Владимирович ждал его всю жизнь. В конце-концов, идёт борьба. Противодействие двух систем, сказал он себе. Если не я, то кто же?
Так думал не только он. Так думали многие. Почти весь советский народ.
Прибыв на место, Бобров сразу же столкнулся с ожидаемыми трудностями. Во-первых, там, где разместили его с семьёй, невозможно было жить без скандала. Общежитие НКВД в районе «МК» было, по словам коменданта управления и начальника «хзо» забито до отказу. Старшему лейтенанту госбезопасности Боброву приказано выделить жилплощадь «шесть на семь» (на коммунальном подселении, ванна и санузел общие) в Заводском районе по улице Пролетарская, 22/1. Главное, что есть телефон. И жильцы, само собой разумеется, проверенные нашими бдительными органами.
Бобров было налился кровью и решил идти на пролом: в приёмную начальника серого дома. Биться до посинения (начальника, конечно!) за приличные условия служебного житья-бытья. Но вовремя себя «затормозил». На новом месте всегда так. Поэтому, он сказал «есть». Взял руку под воображаемый козырёк (форма была сшита, но ещё не подогнана по росту) и, развернувшись на каблуках, вышел из просторного помещения хозяйственного отдела. Ещё было необходимо представиться коллективу и разгрести кучу оперативных и следственных дел. Как- никак – его утвердили приказом по краевому НКВД в должности начальника секретно-политического отдела.
Сыграло роль образование, законченное и высшее (новый нарком придавал этому огромное значение), во-вторых опыт прежней работы под прикрытием. Помимо всего прочего засчитывался дореволюционный стаж ВКП (б), а также участие в гражданской войне. Происхождение у Боброва было неважнецкое (отец – из дворян, а мать из зажиточных крестьян), но так как родители прятали до революции сына-пропагандиста и укрывали склад прокламаций с набором шрифтов, то на эту графу вскоре закрыли глаза. Первую мировую войну (она же империалистическая) Сергей Владимирович встретил с ликованием. «Война это прежде всего весело!» — как говаривал тогда Александр Блок, кумир либерально-революционной молодёжи. Пошёл вольноопределяющимся на фронт. Участвовал в Брусиловском прорыве 1916 года. Через месяц сменил солдатские погоны с витым трехцветным шнуром на золотой басон с одной звёздочкой.
…В первый же вечер на новом месте семью Бобровых ждал сюрприз. За стенкой, в квартире работника райвоенкомата, стали громко играть на гитаре, горланить не совсем приличные песни. Старший лейтенант Бобров постучал в эту дверь. Ему открыли. На законный вопрос: «По что гудим, товарищи красные командиры?» последовало приглашение к столу. Оказалось, что гульба по случаю именин супружницы. За столом овальной формы из «старорежимного» красного дерева сидели в фривольных позах трое. Один пехотный лейтенант, один капитан-артиллерист и подполковник с танками в чёрных петлицах. Между тем никакой супружницы не наблюдалось. Вежливо отказавшись, Бобров тем не менее поздравил её заочно. Ему была поднесена чарка из хрусталя на серебряном подносике. Он лишь вежливо пригубил её. После чего и удалился. Веселье за стенкой возобновилось тут же. Да так, что Елена Петровна, супруга Сергея Владимировича, вознамерилась было пойти сама. Тщетные уговоры мужа на неё подействовали как на слона булавка. Когда хлопнула дверь, Сергей Владимирович мысленно посочувствовал товарищам краскомам. Так и есть – через пять минут там установилась гиблая тишина. Всё было просто: жена объяснила, по какому ведомству служит её муж. В памяти были живы воспоминания о товарище Ежове и «ежовых рукавицах», равно как и шевроны НКВД , где меч пронзает змею. Поэтому «змеи» быстро успокоились.
Первая же неделя службы была для него как гром среди ясного неба. Большая часть оперативных разработок – это удары молотом по воробьям. При Ежове практика фабрикаций дел достигла небывалого размаха. Брали по малейшему подозрению, волтузили до последнего, не гнушаясь пыткой «на конвейере» и обычным рукоприкладством. Для последнего, кстати говоря, приспособили резиновые шланги и обрезки из прессованного картона, что поставлялся из обёрточного цеха Краснодарской табачной фабрики «Золотой лист». Протоколы допросов пестрили противоречивыми показаниями, а также странными «обрывами», когда между одним и другим вызовом к следователю проходила неделя или даже месяц. Что за это время происходило с подследственным, одному Богу было известно.
— …Тётя Маня во время обеденного перерыва в конторе ляпнула своей подруге, что товарищ Сталин – в окружении врагов, — возмущался Сергей Владимирович. – Ещё бы! Она ведь враг, товарищи чекисты! Ату её! А если ляпнула подруге, которая поведала это своему мужу и любовнику, а те в свою очередь – своим… Это же антисоветский заговор! С подготовкой покушения на членов политбюро и товарища Сталина! А как же! Они ведь болтали между собой, что товарища Сталина, товарища Ворошилова и прочих товарищей хотят убить. Ведь об этом в газетах пишут. Так, товарищи?
Дело было на оперативном совещании. Присутствовали сотрудники его отдела. Все почти на подбор – новички, без должного чекистско-оперативного опыта. Кто пришёл с завода, кто с колхоза. Троих призвали в органы со срочной службы в РККА. Только один с пединститута. Из старых, сохранившихся в прежних должностях, было всего трое. В том числе, лейтенант Бобриков.
— Разве это правильно? – видя молчание своих сотрудников, возобновил «великолепную порку» Бобров. – А ведь таких дел при Ежове было около 80 %! Вы только вдумайтесь в эту цифру! Получается, что из рук ЧК уплывали настоящие враги, подставляя нам либо мелких пособников, либо невиновных советских людей. Честных граждан нашей страны! Их мучили на допросах без сна по десять суток, били, морили голодом. Как же трудно, утратив доверие, восстановить его. Что нам и предстоит сделать.
— Разрешите вопрос? – поднялась рука лодочкой. Это говорил сержант Овсяников.
— Разрешаю. Только по существу.
— Как вы считаете, бывает ли скрытый враг? То есть человек, который только прикидывается, что чист. Он ещё ничего не совершил, но его происхождение, старые связи, среда толкают его на преступление.
— Считаю, что бывают. Вот Ежов. Вполне наш. Происхождения пролетарского. Работал, согласно анкете, на заводе «Красный треугольник» учеником мастера. Но это по анкете. А в ходе следствия выяснилось, что его там и близко не наблюдалось. Ясно, как это делается? Вот это не просто подлог, а действительно заговор. Учитывая, что ни кадровый отдел ВКП (б), ни наша контора не смогли столько лет докопаться до истины.
— Так, может таких, как этот Ежов, стоит давить изначально? Плюс тех, кто ему пособничал. Разве не так? – подал голос сосед.
— Так да не так. Вот при царе у революционеров на предварительном следствии, в ходе суда да и на каторгах было прав предостаточно, — мотнул головой Бобров. Как только он начал тему о происхождении, у него запылали огнём уши. – О них восторженно писала демократическая пресса. Царь так и не додумался взять её в руки. Поэтому, благодаря этому и многому другому был свергнут. Большевики взяли общественную жизнь под контроль. Всякое отклонение от курса партии и советского народа изначально рассматривается как преступление. Но у нас остаётся свобода! И принцип демократического централизма, когда младший, то есть подчинённый, может возразить старшему, то есть начальнику: товарищ, ты не прав! Ты зазнался или даже зажрался! – присутствующие неуверенно засмеялись. — Без этого ни социализму, ни коммунизму не быть! И враги прежде всего борются с этими великими завоеваниями. Стремятся забюрократить нашу общественную жизнь. Согласны? – все одновременно кивнули. Посмотрели ободрённей. — Ещё вопросы?
— Да, есть! Разрешите…
Ответив на два десятка (в том числе на тему о надбавках за выслугу, о кормовых, пайковых и обмундировочных), Бобров поставил перед оперсоставом новую задачу. Общую для всех сотрудников. «Мести под гребёнку» теперь отменяется. Всякий привод или вызов в серое здание без веских улик, тем более по анонимному «сигналу» не считается за арест. По месту службы или работы не доводится. Задержание или арест действительно виновных не считается поводом для организации травли членов их семей по месту жительства и на производстве. «Сын за отца не отвечает!» («…А дочь?» — неумно пошутил худенький белобрысый паренёк в вельветовой штормовке «юнгшурм». Бобров живо прихлопнул по столу.) Во время оперативных мероприятий, как-то задержания, опросы свидетелей, беседы с секретными сотрудниками, допросы задержанных и арестованных (он настаивал на различии этих двух процессуальных понятий!) доводить это до подкорки. Никаких бранных слов, никаких угроз об исключении из партии или комсомола с «волчьим билетом» на всю жизнь! В директиве товарища наркома внутренних дел Берия ясно сказано: многие сотрудники отошли от традиционной кропотливой агентурно-осведомительной работы. Выработалась привычка доверяться информаторам с «чистой анкетой», где социально-близкое происхождение, активная общественная работа и прочие записные данные укрывают порой вражеский оскал! Служат чем-то вроде овечьих шкур для волков, как в одной книге написано. Следует изжить на корню данные безобразия и прочие перегибы. Следует с особой тщательность, используя метод перекрёстного агентурного опроса, проверять любой сигнал. Тем более, если он анонимный. Ведь не секрет, что отдельные несознательные граждане и гражданки зарятся на чужую жилплощадь…
К концу заседания Сергей Владимирович «поведал миру» о том, что на Дальнем Востоке в бытность Ягоды, а потом Ежова арестовали большое количество граждан польской национальности. По обвинению в шпионаже на 2-й отдел польского генштаба. Кроме этого, «ляхам» припомнили польский батальон, что сражался против войск Уборевича и Тухачевского в рядах Колчака, разгром армий того же Тухачевского под Варшавой, падение тунгусского болида… Когда все отсмеялись вдоволь, Бобров закончил уже серьёзно: «А враг тем временем близко обретался!» И рассказал о странном исчезновении Люшкова. Мол, не без его, врага, тут обошлось. Похищение, если оно это оно…
— Останьтесь! — бросил он Бобрикову, когда все стали расходиться. – Присаживайтесь, товарищ лейтенант , — когда мощный, широкоплечий Иван Андреевич устроился на хрустнувшем стуле, продолжил: — С августа 37-го по сегодняшнее число вы числитесь в этом звании на должности начальника 3-го отделения. Так?
— Так точно, — по старорежимному, мотнув бычьей головой ответил тот.
— Какие оперативные разработки вы провели лично за этот срок? – суховато, но без напускного самодовольства поинтересовался Бобров. Он выложил на крытую стеклом поверхность дубового стола две пухлые, объёмистые папки. В одной из них было личное дело лейтенанта госбезопасности Бобрикова, в другой – собранные им при последней аттестации характеристики по раскрываемости, оперативности, партийной и общественной работе (был выпускающим стенной газеты «Знамя чекиста»), а также многим другим показателям, включая секретные отзывы кураторов НКВД по объектам (учебным заведениям), которые в свою очередь курировало отделение Бобрикова. – Слушаю вас!
— Товарищ старший лейтенант , — неловко усмехаясь начал тот. – Оперативные разработки за время вредительской деятельности врага народа Ежова считаю чёрным пятном в своей биографии.
— Да ну! – наигранно поднял брови Сергей Владимирович. – Прямо-таки несмываемым пятном считаете этот отрезок своей биографии?
— Несмываемым?.. – с сомнением протянул Бобриков, почесав затылок. – Насчёт того смываемое оно или нет, пусть об этом судит партия и советский народ. Именно они призвали меня в вооружённый отряд ВКП (б). А товарищ Сталин в своём докладе дал своё определение Ежову и ежовщине.
— Вы что – считаете себя виноватым в преступлениях Ежова?
— Я этого не говорил.
— Однако подразумевали.
С минуту в кабинете установилась мёртвая тишина. Лишь чуть слышно ходили напольные часы в дубовом же футляре с боем, с серебренной врезной табличкой: «Нашим славным чекистам от шефов, Коллектив Краснодарской ордена Ленина табачной фабрики «Золотой лист». До революции это был средних размеров заводик фирмы «Табакъ. Коммерческое общество Головинъ и К.» с контрольным пакетом акций американского банка. Во времена нэпа прежние хозяева частично вернулись. Они снова принялись вкладывать свои деньги в производство табака. Даже частично вывозили продукцию в одну из европейских стран, где переклеивали ярлыки и сбывали по иной цене. С 33-го года всё «устаканилось» окончательно.
— Товарищ начальник, — продолжил Бобриков после тягостной для него паузы. Он собрал складки в надбровные дуги. Шевелил ноздрями. – Чувствую, что вас не устраивает моя кандидатура в прежней должности. Это читается в вашем настроении. Готов принять отстранение и служить делу Ленина-Сталина так, как сочтёт нужным руководство.
— Дело в том, — Бобров осторожно раскрыл папку с аттестацией, — что вы сами себя не устраиваете, товарищ Бобриков. Да, именно! Ни как сотрудник органов государственной безопасности, ни как коммунист, ни как, простите, человек. Давно вы живёте с собой не в ладах, — он сделал предостерегающее, едва заметное движение рукой. – Именно так! Я со всей тщательностью изучил ваше личное дело. Посмотрел ваши рапорты, характеристики и докладные. Что же я увидел? В органах – с 33-го года по комсомольской путёвке. Отличные характеристики от 1-го секретаря темрюкского райкома ВЛКСМ. Ездили с комсомольским оперотрядом по казачьим станицам, агитировали крестьян и казаков к добросовестной сдаче зерна государству. Боролись с кулачеством. На вашем личном счету – три мироеда с семьями. Вы участвовали в их высылке уже как стажёр органов в феврале 1933 года. Через год вы — аттестованный сотрудник. В звании сержанта. Кандидат в члены ВКП (б). Так… Смотрим дальше, — Бобриков угрюмо опустил голову в бычьи плечи. – Ещё через год – вам присвоено звание лейтенанта государственной безопасности. Не припомните, за какие заслуги?
— В личном деле всё сказано, — глухо, с плохо скрываемой неприязнью выдавил «Бобик».
— Я знаю, что в личном! А сами? – так как Бобриков упорно молчал, Бобров зашуршал прошитыми суровой ниткой листами: — По заданию Нифонтова, что в должности капитана исполнял обязанности начальника отдела, вы тихой сапой списались через своих секретных сотрудников с родственниками раскулаченных из станицы Тихоретская. Пригласили их через тамошнего председателя на сельскохозяйственную выставку Краснодар, посвящённую юбилею октябрьской революции. Кроме того выгадали возвращение ряда семей из раскулаченных в Тихаретскую. В связи со снятием судимости или окончанием высылки. Помните что было дальше?
— Не помню… — с циничной простотой, глядя в паркет, устеленный зелёной ковровой дорожкой, молвил лейтенант .
Ещё бы тебе помнить, со скрытым отвращением подумал Бобров. Все они через месяц были арестованы как враги народа и вредители, что организовали якобы антисоветскую подпольно-диверсионную организацию «Трудовой крестьянский союз», имевшую своей целью дискредитацию колхозно-совхозного движения, порчу инвентаря и сельхозпродукции, печатанию и распространению соответствующей литературы от НТС. Вроде какие-то листы нашли в столе у председателя колхоза «Красный луч», у счетовода и агронома. У двух последних – дома, при обыске, под половицами. Как отмечают свидетели, проходившие по пересмотру дел в 1940-м, сотрудник райотдела НКВД как-то поразительно точно, безо всякого «вступления», оторвал именно эти половицы. Такое могло быть только по предварительному «сигналу». А его, простите, не было.
— Вот что, товарищ Бобриков, — устало подытожил «товарищ начальник». – Как советский человек советскому… гм, гм… человеку : с т ы д н о! Я не знаю, почему руководство управления на местах и в центре приняло решение аттестовать вас, но к мнению руководства прислушаюсь. Поэтому давайте будем работать. Но! То, что скажу сейчас, примите к сведению как аксиому. Фабрикацией в стиле Ягоды-Ежова, жандармских провокаций я не потерплю. Буду избавляться от вас со всей решительностью и жёсткостью. У нас хватает реальных, а не мнимых врагов, шпионов и диверсантов. Вы согласны?
— Ну да, — Бобриков, казалось, готов был забросить ногу на ногу.
— Что «ну да»?!? – округлил глаза Бобров.
Бобрикова как подбросило невидимой пружиной. Он снова подобрался и сидел как по стойке смирно. С вогнутыми плечами и грудью со эмалево-золотым значком «Отличному чекисту». Он вспомнил кое-что из своего далёкого уже прошлого. Свой первый допрос. Тогда, в уже далёком 34-м, его вызвал прежний начальник 3-го отделения – Нифонтов. «…Подследственный Вержбитский по делу преподавателей не мычит, не телится на допросах, — сухо, не предлагая сесть, обратился он. – Спуститесь в следственное и разберитесь. Я уже прозвонил. Доложите по выполнению. Вопросы?» Бобриков кивнул, что таковых нет. Но, при попытке выйти, он был остановлен. Взгляд начальника был столь пронизывающ, что оторопь взяла. «Вы ещё здесь? – с наигранным удивлением бросил ему Нифонтов. Склонив маленькую лысую голову, он намеренно долго чесал затылок. Затем стал рассматривать пальцы с наманикюренными ногтями. Бросил совсем уже уничтожающий взгляд. А ведь неделю назад ещё беседовал с молодым сотрудником, переведённым с повышением из 2-го отдела, исключительно любезно. Поил чаем, расспрашивал о родных и близких. Всё это подействовало завораживающе. Иван, почти не колеблясь, вывернул свою душу наизнанку.
В следственном отделе, в кабинете, где находился Вержбитский, в самом деле шёл вялотекущий, малоэффективный допрос. Молодой, пришедший по комсомольскому набору следователь-стажёр Перунов лишь таращил на подопечного глаза. Барабанил головкой карандаша по столу. Или откидывался на спинку стула. Так он старался произвести на подследственного хоть сколько-нибудь впечатления. Убедить его в своей значительности. Но уже гражданин, а не товарищ Вержбитский, был человек эрудированный. С аккуратно причёсанной бородкой и старомодных очках белого металла, он хитро стрелял глазами поверх головы этого веснушчатого паренька. На неубедительные вопросы, суть коих сводилась к попытке сыграть на совести и долге перед советским народом, лишь загадочно реагировал: «Вот поживёте с моё, юноша… Эх, если б я помнил, что было, а чего не было!.. Не знаю, погода была отвратительная: снег глаза слепил. Ветер уши закладывал – что мне говорили, не слышал…» В таком духе допрос тянулся уже третьи сутки. По какой-то загадочной причине Вержбитского «не садили» на «конвейер» без сна. Это настораживало Бобрикова: могло значить лишь то, что арестованный по делу антисоветской белогвардейской организации, связанной с Российским Воинским Союзом (РОВС) в Париже, по каким-то причинам был нужен руководству. Целый и невредимый. Даже выспавшийся.
Бобриков, ощущая почти физически мёртвенный взгляд начальника, предложил молодому стажёру-следователю выйти. Затем, бегло просмотрев протокол допроса, решительно захлопнул папку. «…Слушай меня внимательно, гнида, — с любезной жестокостью обратился он к подследственному. – Вина твоя перед советской властью очевидна. Мы располагаем достаточным количеством устных свидетельств и косвенных доказательств. Твои родственники живут в Парагвае. А там – центр белой эмиграции! Так что колись пока не поздно. Не то, — он деловито сжимал и разжимал огромные кулаки, — попляшешь у меня «камаринского» в КПЗ…Понял или нет?» Тот лишь усмехнулся. Смахнул невидимую пыль с плеча. На Бобрикова это произвело угрожающее воздействие. Будто его приворожили или подморозили. «…Вы откуда к нам прилетели, милый друг? – раздался точно из далека чужой, нечеловеческий голос. – С Марса? Юпитера? Венеры? А, вы с астрального мира? Так вот, я, ваш покорный слуга, тоже обитал бестелесной оболочкой. Вы об этом хотели меня спросить? Ещё вопросы?» Кровь частыми толчками стала приливать к вискам. Не помня себя, Бобриков набросился на расплывчатое пятно. Яростно бил его, топтал сапогами. Хотел было вынуть из кобуры наган – вовремя себя удержал. Опомнился лишь того, когда узрел: в кабинет вошли Нифонтов и Баргезис, начальник следственного отдела. «…Кто вам разрешил нарушать революционную законность, товарищ Бобриков? – начал с убийственным спокойствием начальник Секретно-политического отдела. – Вы избили подследственного. Это – установленный факт! Сдайте оружие и удостоверение! Вы отстранены от оперативной работы. Пока расследование….»
Быть бы Бобрикову сосланным на Соловки, тянуть бы лямку в конвое или оперчасти при СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения). Но… Судьба выкинула странный фортель. То ли пощадила, то ли наказала его. Да так, что и вспомнить страшно. Произошло (с подачи кого-то из управления – не иначе!) это странное знакомство – турист из Германии предложил ему интересное сотрудничество. Так и заявил: «…Мы не вербуем вас, товарищ Бобриков – предлагаем вам работать с нами в интересах защиты революционных завоеваний. Они попираются нынешним политическим руководством России. Вы понимаете, о ком я? Отлично… Идея товарища Троцкого о мировой революции забыта. Она вычеркнута из жизни партии, в членах которой вы состоите. Вместо этого провозглашён курс на… строительств социализм одна страна. Вы меня понимайт? Подвергаются незаконным репрессиям многие видные революционеры, продолжатели дела Льва Давидовича. Насколько мне известно, вас тоже… не гладить по голова ваш начальств. Так есть?» Бобриков угрюмо кивнул. «…Тогда мы поняли друг друга, — заинтересованно обнадеживающе кивнул иностранец. – Выпейте этот нектар. Он вернёт вам силы. Предаст вашему существованию новый смысл».
* * *
Из документов народного комиссариата обороны СССР:
Командующему войсками Киевского Особого военного округа.
Начальник погранвойск НКВД УССР донёс, что начальники укреплённых районов получили указание занять предполье.
Донесите для доклада наркому обороны, на каком основании части укреплённых районов КОВО получили приказ занять предполье. Такие действия могут немедленно спровоцировать немцев на вооружённое столкновение и чреваты всякими последствиями.
Такое распоряжение немедленно отмените и донесите, кто конкретно дал такое самочинное распоряжение.
10 июля 1941 года. Жуков.
Командующему войсками Прибалтийского Особого военного округа.
Вами без санкции наркома дано приказание по ПВО о введении положения номер два. Это значит провести по Прибалтике затемнение, чем и нанести ущерб промышленности. Такие действия могут проводиться только с разрешения правительства. Сейчас ваше распоряжение вызывает различные толки и нервирует общественность. Требую немедленно отменить отданное распоряжение, дать объяснение для доклада наркому.
20 июня 1941 года Жуков.
Председателю Совета Народных Комиссаров от 15 мая 1941 г.
Соображение по плану стратегического развёртывания Вооружённых Сил Советского Союза.
I…
Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развёрнутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Что предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развёртывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развёртывания, и не успеет ещё организовать фронт и взаимодействие родов войск.
II
Первой стратегической целью действий Красной Армии поставить – разгром главных сил немецкой армии, развёртываемых южнее Брест-Демблин и выход к 30-му дню севернее рубежа Остроленка, р. Нарев, Ловничь, Лодзь, Крейцбург, Опельон, Оломоуц.
Последующей стратегической целью – наступать из района Катовице в северном или северо-западном направлении, разгромить крупные силы врага центра и северного крыла германского фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии. (…)
Василевский.