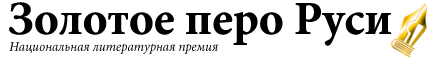Иван Степанович Безруков поднялся рано. Рассвет чуть забрезжил, а он уже на ногах: умытый, выбритый, пахнущий одеколоном. Он и в обычные дни не любил спать подолгу (несмотря на то, что срочных дел у него, одинокого старика, не было) сегодня же тем более вылеживаться не пристало. Сегодня день особенный: День Победы. Девятого мая Иван Степанович не просто пенсионер, а гвардии сержант Безруков. Позавтракав на кухне, ветеран вошел в комнату, являющуюся залом и спальней одновременно, чуть прихрамывая, бодрой твердой походкой направился к окну. И куда только девались сутулость и обычно шаркающие шажочки? Одернул тюлевую занавеску, глянул на двор; весна, благодать, безветрие. Ветки деревьев не шелохнутся. Утреннюю тишь нарушают только чирикание воробьев, шуршание метлы дворничихи Маришки и редкий гул машин, проезжающих по соседней улице. Небо чистое, прозрачно-голубое. В нем, словно заблудившийся ягненок, одинокое подрумяненное восходящим солнцем облачко. День обещает быть хорошим. Да и не может он быть плохим, праздник ведь. Даже дождь и тот пролил ночью, поплакал по погибшим за эту самую Победу, а дневное время решил не омрачать ради светлого праздника. Правда, лужи после себя оставил немалые. Ничего, это не беда, лужа праздника не испортит. Спавший на подоконнике рыжий кот Филимон, проснулся, встал, выгнул дугой спину, зевнул, показывая остроту своих молодых зубов. Посмотрев на хозяина, замурлыкал, стал тереться об руку, требуя еды.
– Что, блудник, проголодался? Почему не пришел, когда я завтракал? Спящим да гулящим блюдо с дырой.
Филимон мяукнул. Жалостливо, будто извиняясь.
– Ладно уж, пойдем покормлю.
На крохотную кухоньку Иван Степанович вошел в сопровождении беспрестанно мяукающего кота. Филимона он подобрал котенком полгода назад, чтобы скрасить свое одиночество. Теперь Филимон являлся полноправным членом их маленькой семьи. Достав из холодильника «Бирюса» сырого окунька, положил его в миску стоящую рядом с ножкой кухонного стола. Филимон с жадностью набросился на рыбу, издавая при этом ворчливое мурлыканье. Иван Степанович не знал, выражает ли кот этими звуками свое удовлетворение или предупреждает, что рыба в миске принадлежит только ему, а потому решил успокоить питомца:
– Ешь, отбирать не стану.
Четко, по-военному повернулся, прошагал в соседнюю комнату, подошел к шкафу отворил створки. Пахнуло нафталином. Сколько времени прошло, а запах остался. Жена бдительно следила за сохранностью одежды, берегла от моли, раз в месяц вывешивала на веранде проветриться, она же готовила ему костюм к празднику, стирала, гладила. Сама на праздник не ходила: боялась, что сердце волнения не выдержит. Теперь вот все сам. Почти год минуло, как ушла сердешная Катерина Васильевна. А ведь моложе его. Быстро ушла, тихо, без мучений. Легла спать и уснула навечно – сердце остановилось. Большое сердце, доброе, любящее, терпеливое. Сколько оно вынесло: и сиротливое детдомовское детство, и работу в военном госпитале, наполненном кровью, смертью, ранами и страданьями бойцов, коих день за днем привозили с фронта. Там-то они и познакомились – тогда еще рядовой артиллерист Иван Безруков и санитарка Катюша. Сюда-то в этот госпиталь и этот город, вернулся он после войны. Вернулся к ней – юной, русоволосой, невысокой девушке с глазами артистки Ольги Остроумовой, – сыгравшей замечательную роль в военном фильме «А зори здесь тихие». К ней нежной, ласковой, верной и уже столько пережившей и повидавшей в своей жизни. Такой вот молодой в последнее время она приходила ему во сне, нежно гладила по голове, заботливо спрашивала: «Поел ли, Ванечка? А лекарства выпил?» – и наставляла: «Если что, сразу к врачу иди. За квартиру не забудь заплатить, а то долг нарастет»… Большое сердце, вот только больное. Первая боль пришла в него после того, как в сорок шестом умер их первенец. После этого бог долго не давал им детей. Потом родился Андрюша, а через год Анюта. Не радость ли. Но боль пришла снова. Погиб сын Андрей. Отправляли они в армию молодого, высокого, красивого парня, а получили обратно цинковый ящик. С той поры и захворала его Катюша. Но крепилась, может, ради него и крепилась, да еще ради дочки, младшую надо было на ноги подымать. Дочка Анюта теперь в Москве проживает, муж, двое детей, квартира. Что еще для счастья надо было? Нет, в бизнес их потянуло, да не все гладко пошло. На чем-то прогорели, влезли в долги, не обошлось и без бандитов, да и чиновники-мздоимцы крови немало попили. Помогали дочери, чем могли. Пришлось поменять просторную двухкомнатную квартиру на однокомнатную в том же доме. Вырученные деньги ушли в Москву. Когда этого оказалось мало, отослали все свои сбережения, продали все что было драгоценного. Ордена да медали остались. Это святое. Главное: у Анютки все наладилось. Несмотря на это, по сию пору отсылал Иван Степанович часть своей пенсии в Москву «внукам на шоколадки». А что, ему не жалко. Много ли пенсионеру надо. Можно было бы и больше отсылать, да больно быстро растут цены на продукты и лекарства. Внуки – это тоже святое. Только вот редко навещают. Последний раз на похоронах и были. А до того если и приезжали, то не больно их увидишь. Они все больше у друзей, знакомых гостят или уезжают на Волгу, на «низа», рыбачить, купаться, загорать. И то верно, чего им в его однокомнатной квартире делать.
Держась за створку шкафа, повернулся, посмотрел на фотографии, висевшие на стене в деревянных рамках сделанных его собственными руками. Вот они – Анютка с мужем и внуками – ниже он с Катюшей и детьми у моря. Это в Анапе, еще в советское время по профсоюзной путевке полученной от судоверфи, где он проработал до самой пенсии. Слева два солдата в форме, вороты расстегнуты, чтобы было видно тельняшки, на голове панамы. Стоят обнявшись. Лица счастливые улыбающиеся. Надо показать родителям, что все у них хорошо… в Афганистане. Так и сгорели оба в БТРе, грузин Арчил Тордия и русский Андрей Безруков. Почему-то вспомнился заряжающий, ефрейтор Давид Машашвили, погибший в бою под Прохоровкой. Тогда от их батареи осталось два орудия и дюжина израненных бойцов. Тогда они были вместе. А что сейчас? Эх! Взгляд упал на большой фотопортрет. Увеличенная фотография несколько смазала лица, но выражение счастья на них осталось. Они просто излучали его – молодая русоволосая девушка в цветастом платье и гвардии сержант в лихо заломленной набок пилотке и выцветшей гимнастерке…
– «Гимнастерка! Что же я, старый дурак, стою». – Досадливо покачав головой, полез в шкаф. «Вот она» – Ласково, словно кота Филимона, погладил висящую на вешалке гимнастерку с тремя пришитыми полосками на груди. Нашивки за ранения. Тронул верхнюю. – «Эта первая в Сталинграде. Благодаря этому ранению, я оказался в госпитале и встретился с Катюшей». Вздохнул. Отодвинул гимнастерку, достал серый праздничный костюм. Звонко звякнули медали на пиджаке, «зайчики» хаотично забегали по комнате. Костюм как новый, только локти чуть потерлись, да на брюках на правой штанине чуть ниже колена небольшой, сантиметра три, шов серыми нитками. Зацепил на кладбище во время похорон жены и даже не заметил, не до того было. Зашивать разорванное место пришлось накануне. «Вроде бы не очень заметно. А Катюша бы заштопала аккуратнее. Ну да ладно. Хорошо соседка – дворничиха Маришка – рубашку постирала да выгладила. Не забыла старика и о празднике не забыла, носки новые подарила, серые под костюм. Сама ведь пришла: «Давай, дядь Вань, что тебе к празднику простирнуть». Молодец девка».
Маришка и раньше к ним заглядывала, подолгу они с покойной Катериной Васильевной чаи на кухне распивали да разговоры вели. Она и теперь его не оставляла: то пирожков ему напечет, то за продуктами сходит, то за лекарствами. Сам Иван Степанович ее тоже не забывал: каждый Новый год ей и троим ее детишкам подарки, на восьмое марта цветы, надо денег занять – пожалуйста. Маришка долги возвращала в срок и полностью. «Маришка, какая уж там Маришка, ей ведь пятьдесят. Столько было бы сейчас и сыну Андрюше». Маришкой Иван Степанович называл дворничиху по привычке, так как знал ее в ту пору, когда она, будучи конопатой, кареглазой девчонкой игралась в песочнице с его сыном Андреем. «Они ведь одногодки. Вместе в детский сад ходили и в школу тоже. В одном классе учились. В девках она была красавица, загляденье. Не зря наш Андрюшка поглядывал на нее. Может, чего меж ними и было, кто знает, да только как не стало Андрюши, она за его друга Борьку Чилимова выскочила. Не сложилось у них с Борькой. Борькины родители были рангом выше – отец горкомовец, мать снабженка; жили рядом в элитном доме, а у Маришки, грузчик да техничка, да и те любители выпить. Не пришлась невеста ко двору, простовата. Но свадьбу вынуждены были сыграть. Борька пригрозил родителям суицидом. Думали, пусть поживет с молодой, перебесится, поймет, почем фунт лиха да и вернется под родительское крылышко. Развестись ведь никогда не поздно. Не дождались, так и померли, и в завещании его не помянули. А Борька к Маринке прикипел, народили детишек, жили не плохо, хоть и небогато. Пришла перестройка, Борька попал в аварию, стал инвалидом, запил. Предприятие, где работала Маришка, ликвидировали. Помыкалась она без работы, да и пошла в дворники. Так по сию пору и метет».
Запели на стене старинные, темного морения, резные часы, доставшиеся им от прежних хозяев квартиры. Именно «запели», иначе не скажешь. Иван Степанович любил этот перезвон и часы эти с иностранной надписью на белом лакированном кругляше маятника «Le Roi a Paris». Стрелки показывали восемь. Пора собираться. Аккуратно разложил на диване вещи. Рука наткнулась на пульт от телевизора. Рука сухая, покрытая пигментными пятнами. Сквозь тонкую, почти прозрачную кожу, видны вздутые, синеватые вены. Пальцы обхватили черную коробочку пульта. «Это ж надо, додумались. Лежи себе на диване, включай, выключай. Чудно. А телефоны сотовые, а компьютеры. Далеко шагнули, быстро развиваемся. Вот если бы еще и духовно так росли». Нажал кнопку. Из телевизора в комнату хлынула песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. По коже – мурашки. «Вот песня на все времена, это тебе не «Ты целуй меня везде, восемнадцать мне уже». Тьфу. Срамота. Безвкусица». Посмотрел в телевизор. Кадры первых послевоенных дней. Народ встречает победителей. Пожилой фронтовик в пилотке с «буденовскими» усами горячо целует жену. Офицер в круглых очках крепко прижимает к груди маленькую дочурку. Победа. Это ли ни счастье. Вот так же, наверное, встречал наш народ своих защитников во все времена.
Одевался Иван Степанович неспешно. Расправлял каждую складочку, снимал каждую соринку-пылинку прилипшую к костюму. А как же, в этот день надо выглядеть как на параде. Посмотрелся в зеркало. Потускневшие, но еще сохранившие остатки голубизны глаза, кустистые брови, небольшой прямой нос, тонкие губы, впалые щеки и морщины. Эти «напоминания старости» кругом: на щеках, у глаз, на высоком лбе. Последний штрих. Осторожно пригладил ладонью прическу – зачесанные назад волосы. Волосы у Ивана Степановича седые да, на зависть многим, густые. Что ж, пора. В прихожей одел стоптанные, но начищенные до блеска еще со вчерашнего вечера ботинки. Глянул на лакированную палочку для ходьбы. «Третью ногу брать не буду; так похромаю». Открыл дверь. Филимон проскользнул между ног наружу, замяукал.
– Нет, брат, тебя я с собой не возьму.
Часто случалось, что кот сопровождал его до ближайшего продуктового магазина и обратно. Филимон возражать не стал, видимо понял – поход в магазин отменяется. Подняв трубой пушистый рыжий хвост, пробежал веранду, быстро спустился по ступеням, выбежал во двор. Закрыв дверь, Иван Семенович последовал за ним. Лавируя между столиками, кадками с домашними цветами, велосипедами, тазами и старыми стиральными машинами, он миновал застекленную наполовину веранду. Только наполовину. Рамки для стекол были небольшого размера, но их было много. Стекла, вставленные в них, разбивались мальчишками, по неосторожности жильцами, выпадали от старости или от ветра, но вставлять их снова никто не удосуживался. Впрочем, и сам дом давно никто не ремонтировал, оттого и ветшала с каждым годом бывшая купеческая усадьба, а ведь красива, если приглядеться. Резные наличники, полотенца, колонны парадного входа, как на Вологодчине, откуда он родом.
Спускался осторожно, держась за деревянные перила. Ступени поскрипывали под ногами. По звуку, который издавала каждая из них, он мог определить какая она по счету. Каждая ступень скрипела на свой лад. Одна пищала, как мышь, другая стонала, скрип третьей был похож на карканье вороны. Вот «залаяла» последняя. Шаг – и он на улице. Воздух весенний, свежий, правда, слегка испорченный автомобильными выбросами и запахом… перегара? Это зловонное дыхание шло от Маришкиного мужа Борьки. Будто специально поджидал Чилим. Чилимом Борьку называли с детства за созвучие с его фамилией. Только не Чилимом его надо было называть, а Киселем или Квашней. Чилим – колючий и твердый водяной орех, – а Борька, какая в нем твердость – мягкотел, безволен. Вся твердость его проявилась только тогда, когда он матери с отцом самоубийством грозил. Этот прием Борька взял на вооружение с собой в последующую семейную жизнь. Как дело доходило до развода, клялся Маришке, что наложит на себя руки. Маришка шла на попятную. Не хотела на себя грех брать. Боялась, скажут мол, инвалида до самоубийства довела.
Вот и сейчас стоит, трясется – небритый, обросший, лицо опухшее, под правым глазом синяк, покалеченная рука висит плетью. На вид глубокий старик, а ведь ему только пятьдесят.
– С-Степаныч, у тебя это, праздник, с-с тебя причитается, – хриплым прокуренным голосом выдавил из себя Чилим.
– Не у меня. У нас. На пьянку не дам, – отрезал ветеран.
– С-Степаныч, помру ведь. Ей богу, помру. Опохмелиться надо. Выручи. Дай на чекушку, – слезно взмолился Борька. Голос его как-то странно задребезжал.
«Придется дать, а то и вправду Кондрат хватит пьянчугу, как потом Маришке и детишкам его в глаза смотреть буду. Какой никакой, а муж и отец, родная кровь», – Безруков вынул из кармана «гаманок» (так он по старой привычке называл кошелек), достал «сотку», сунул в Борькину ладонь, дрожащую от нетерпения и похмельного синдрома.
– На вот, и закуски себе купи.
– С-Степа-аныч, ну ты и человек! Какая на фиг закуска, здесь же почти на пол литра, а если «разведенки» взять, то на целый литр хватит, – Борька улыбнулся щербатым ртом, обнажив изъеденные кариесом зубы.
Махнув с досады рукой, ветеран направился к выходу со двора.
* * *
До центра города, где проходили торжества, Ивану Степановичу идти было недалеко. Жил он поблизости, в старом (бывшем купеческо-мещанском) районе города. Дома в нем были большей частью деревянные, но немало было и кирпичных или построенных из кирпича наполовину. На то был в свое время царский указ, а поскольку кирпич стоил недешево, строили по-хитрому, экономно. Фасады возводили каменные, а все остальное из дерева. Зато каждый дом свое лицо имел, не то, что нынешние стеклобетонные монстры. «Старички» и до сей поры, красуются друг перед другом: кто деревянной резьбой, кто арочными окнами и балконом с коваными ажурными перилами, кто изваяниями львов, дев или мифических персонажей, башенками, а кто и колоннами в ионическом, дорическом или коринфском стиле. Жаль, что их с каждым годом становится все меньше. А ведь отреставрируй эти старые здания и потянутся сюда люди со всего света посмотреть на эту, мало где сохранившуюся, старину. Правда, в последнее время подвижки в этом направлении пошли и сие радовало пенсионера Безрукова. Иван Степанович любил гулять по улицам старого города. Если бы не машины и рекламные щиты, то можно было подумать, что ты в девятнадцатом веке. Того и гляди откроется дверь одного из особняков и на улицу выйдет дама в старомодном легком платье, с зонтиком от солнца в руке и широкополой шляпе на голове, сопровождаемая молодым гимназистом. А то и вовсе, вылетит из-за угла пролетка с лихим извозчиком на облучке, везущая чинного купчину.
Пролетки не было, были машины. Иван Степанович шагнул на «зебру». Движение на этой улице одностороннее, светофора нет, зато висит знак пешеходного перехода, а значит – бояться нечего –автомобиль должен уступить. Иван Степанович забыл о том, как у нас соблюдаются правила и исполняются законы, он собирался переступить небольшую лужу, преградившую ему путь, когда черный «БМВ» проскочил мимо, обдав ветерана грязной водой… Словно очередью из автомата и боль… Боль внутренняя, нестерпимая. «БМВ» притормозил.
«Извиниться хочет», – промелькнуло в голове Безрукова. Стекло со стороны водителя опустилось. Из «недр» иномарки высунулась бритая голова:
– Ты куда прешь, старый козел! На тот свет захотел!
«Добил», – подумал ветеран отрешенно. Разум не хотел принимать то, что такое может случиться.
– Вот сволочь! – раздался позади голос. Безруков повернул голову. Высокий, русоволосый мужчина, лет сорока, в светло-коричневой ветровке и джинсах, дернулся в направление машины, но «БМВ» зарычав рванул с места, оставляя облитого грязью ветерана на дороге.
Как он переходил дорогу, Иван Степанович не помнил. Слезы, вызванные горькой обидой и бессильем, застлали глаза. Будто слепой он добрался до ступенек продуктового магазина, стоящего у дороги, сел на одну из них.
«Словно нищий на паперти. Как же так? Ведь думали лучше люди после войны станут, добрее. Мечтал об этом и Ержан Куспанов убитый при форсировании Днепра, и Григорий Парамонов погибший в Восточной Пруссии, и многие другие. Нет, не вышло. Дошло до того, что ветеранов избивают, грабят, обманывают, отнимают квартиры и добытые кровью награды. Сильнее звериная сущность оказалась».
День вдруг посерел. Не так весело поют воробьи, не так ярко светит солнце и небо не такое прозрачное.
«Вот и испортила лужа праздник. Куда же я такой пойду? Как перед товарищами покажусь в таком виде? Кончился мой День Победы».
Никогда не жалел он себя ни на работе, ни на войне, а тут вдруг подкатила перемешанная с обидой жалость к самому себе и заплакал… Не стыдясь заплакал, навзрыд.
– Дедушка, не плачьте. – Детская рука легла на плечо старика. Знакомый мужской голос сказал:
– Маша, ты побудь с дедом, а я в магазин за минералкой сгоняю.
Иван Степанович неторопливо достал из бокового кармана пиджака носовой платок, утер лицо, поднял голову.
Перед ним стояла девочка лет десяти. Распущенные пшеничные волосы, курносый нос, темно-серые глазенки смотрят участливо, жалостливо, в руках букет красных тюльпанов.
Из магазина вышел русоволосый мужчина в светло-коричневой ветровке. Тот самый. Видимо отец девочки. Отчего-то там, у дороги, он ее не приметил. В руках у мужчины пластиковая бутылка минералки.
– Вставай отец. Сейчас мы тебя в порядок приведем.
Иван Степанович поднял голову:
– Не надо сынок, я теперь домой.
– Ты батя, не стесняйся. Наши с Машкой деды-прадеды с войны не вернулись нам ухаживать не за кем, так мы за тобой поухаживаем. Да Машка? – мужчина подмигнул дочке.
– Да пап, – бойко отозвалась девочка.
Упрямиться ветеран не стал, поднялся. Отец девочки принялся за чистку костюма. Иван Степанович помогал чем мог. Вскоре общими усилиями костюм был отчищен от грязи. Вот только беда, влажные пятна расползлись и костюм выглядел неопрятно. Это расстроило бывшего гвардии сержанта, но виду он не подал.
– Может вас проводить? – заботливо спросил мужчина.
– Нет, нет, я сам, – Безруков отказался, так как и сам не знал, пойдет ли он теперь на встречу с друзьями.
– В таком случае всего вам хорошего, не болейте. С праздником, – мужчина протянул ладонь. Иван Степанович крепко пожал ее. Выразить благодарность словами он не смог, от волнения перехватило дыхание. Мужчина улыбнулся и повернулся к дочке.
– Ну что, Мария Вячеславовна, пойдем?
– Сейчас.
Девочка разделила букет на пополам, одну половину протянула ветерану:
– Это вам.
Иван Степанович сглотнул и словно вытянул из себя:
– Спасибо.
– Вам спасибо… за Победу. – Это были слова отца девочки. Мужчина взял дочку за руку, они быстро зашагали по направлению к центру.
Безруков смотрел им вслед, и сердце его наполнялось теплом. Он понял, что должен быть там, среди других ветеранов. Должен идти туда ради таких вот добрых людей, как эти отец и дочь. Он верил, таких все же пока большинство. «Пойду. А то, что костюм мокрый не страшно, до парада высохнет. День то вон какой солнечный. Хороший день. И небо вроде бы снова посветлело». И пошел…
* * *
Место встречи изменить нельзя. Они ежегодно встречались в одном и том же – у здания Главпочтамта. Было время, ветераны встречались полками, потом дивизиями, армиями, а теперь фронтами. У них же случилось так: десять лет назад они четырнадцать ветеранов по случаю празднования Победы оказались в одном летнем кафе, пообщались, попели песни и подружились. Люди разные, многие ранее не знавшие друг друга, а сошлись, потому что было у них нечто общее и название ему – война. Договорились встречаться каждый год у Главпочтамта. Сначала их было четырнадцать, потом стало семнадцать, а за тем наступила пора потерь. Такова уж судьба человека, каждому отмерен свой срок жизни. В прошлом году собрались только четверо: артиллерист, гвардии сержант Иван Степанович Безруков, моряк, старшина второй статьи Михаил Федорович Никитенко, разведчик, капитан в отставке Рафик Мустафаевич Сайфутдинов, и летчик, старший лейтенант Николай Дмитриевич Полянский. У Главпочтамта стояли двое: Сайфутдинов – широкобровый, лысоватый, великан в роговых очках с огромным букетом гвоздик и низкорослый Никитенко. Этот как всегда в морской форме: брюки клеш, фланелька, гюйс, бескозырка, через плечо, неизвестно где раздобытая им, офицерская планшетка, его постоянная спутница в День Победы. Никитенко напоминал Безрукову Деда Мороза без бороды. Причиной тому был мясистый нос и мелкие красные капилляры, из-за которых щеки Никитенко казались нарумяненными.
– Ну, вот с цветами, – укоризненно произнес Сайфутдинов, – я же говорил, что цветы с меня. У меня внучка цветочным бизнесом занимается. Здравствуй дорогой. С праздником тебя.
– И тебя тоже.
Обнялись крепко, по братски, по фронтовому.
– Э-э, ты чего мокрый? В Волге купался или под дождь попал? – удивленно спросил Сайфутдинов.
– Так получилось, – смущенно ответил Иван Степанович.
– А ну молодежь хватит вопросы задавать, дай старшим поздоровкаться.
Молодежью Сайфутдинова Никитенко назвал не зря. Рафик Мустафаевич был моложе остальных. На фронт он попал не в свой срок. Приписал себе два года. В военкомате никто не заподозрил в почти двухметровом широкоплечем здоровяке шестнадцатилетнего подростка.
– Дай, гвардии сержант, я тебя обниму, – Никитенко протянул руки к Безрукову.
– Да я же мокрый. – В голосе Ивана Степановича прозвучали виноватые нотки.
– Это ты кого, меня краснофлотца, черноморца решил своей сыростью напугать. – Никитенко стал тискать Безрукова в объятьях. Несмотря на возраст, энергия из него била ключом. Иван Степанович вспомнил, как семь лет назад во время их очередной встречи на праздновании Дня Победы этот маленький старичок выдал в кафе такую чечетку, что рукоплескали все присутствующие, включая и молодежь. Куда там нынешним исполнителям степа.
– А Николай Дмитриевич где? Не звонили ему? – спросил Безруков, высвободившись из объятий старого моряка.
– Не придет Николай Дмитриевич, – Сайфутдинов отвел глаза.
– Что приболел?
– Никогда не придет.
– Как не… – Иван Степанович запнулся, словно слова, которые он хотел сказать, наткнулись на невидимую преграду.
Горестная весть оглушила. Словно холодной водой окатили. И опять неожиданно. Каждый год, идя на встречу, предполагаешь, что кого-то уже не увидишь и все же…, – ком подступил к горлу – «А ведь крепок был Николай Дмитриевич, каждое утро гимнастику делал, обтирание. Говорил, до ста лет доживу, и вот…».
Сайфутдинов подошел, успокаивающе похлопал увесистой ладонью по плечу, обратившись к Никитенко, сказал:
– Доставай, Михаил Федорович.
Никитенко открыл планшетку, достал из нее плоскую фляжку. В ней он каждый год приносил чистейший армянский коньяк. Откуда он его брал, до сих пор оставалось тайной даже для разведчика Сайфутдинова и Безрукова. Коньяк Никитенко наливал в пробку, которая вмещала ровно пятьдесят грамм. Пили по очереди. Никитенко последний. Выпил, закрутил пробку, сунул фляжку в планшетку. Дрожащими руками вынул из кармана расклешенных флотских брюк пачку сигарет, закурил. Безруков заметил, как на щеке моряка блеснула слезинка. Подошел, обнял за плечи, тихо запел утесовскую:
Ведь ты моряк, Мишка!
Моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда.
Сайфутдинов объял своими ручищами обоих:
– Ну, все. Николая Дмитриевича помянули, пора и другим поклониться.
– С запахом пойдем, неудобно, что люди подумают, – подал голос Никитенко.
Сайфутдинов достал из внутреннего кармана упаковку жвачки «Орбит»:
– Вот, пожуй, запаха не будет.
– Ты что Рафик Мустафаевич, хочешь, чтобы я с твоей жвачкой свои новые протезы выплюнул.
– Не хочешь – не надо. Пойдем, нам сегодня и с запахом можно.
Друзья неторопливо зашагали к старому парку, в котором у подножья обелиска, посвященного воинам Великой Отечественной войны, горел Вечный огонь.
* * *
У памятника полно народу. Губернатор, мэр, администрация города, священнослужители, военнослужащие, казаки и просто люди пришедшие поклониться тем, кто отдал жизнь за родную землю. Среди них Безруков заметил светловолосую девочку Машу с букетом тюльпанов и ее отца. Хорошее зрение, хоть и немного ослабшее, он все-таки сохранил. Не зря за зоркость и хороший глазомер его определили в артиллерию наводчиком орудия.
После речи губернатора и залпа памяти, произведенного из карабинов отделением морских пехотинцев, началось торжественное возложение венков и цветов. Иван Степанович положил тюльпаны рядом с цветами, оставленными у памятника девочкой Машей.
От Вечного огня процессия направилась к площади, где должны были произойти главные действа праздника. Шли вдоль зубчатых стен и башен старого Кремля. Сколько всего видел этот каменный свидетель былых времен? Много. Помнит он и «тушинских воров Ивашку Заруцкого с Маринкой Мнишек люторкой, еретицей, самозванкой» и радетеля за народ – «разбойного» атамана Стеньку Разина со товарищи, и царя-реформатора Петра Алексеевича. Помнит бунты и революции, мор и великие пожары. Помнит Победу сорок пятого и ликование горожан, уставших от долгой войны. Некоторые из тех, кто встретил много лет назад долгожданную победу, шли теперь под его стенами, позвякивая наградами «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу», «За боевые заслуги».
Вот и многолюдная площадь. Все ждут начала парада, который должен пройти по улице, примыкающей к этой самой площади. Улица с обеих сторон облеплена людьми.
Сайфутдинов поглядывает на часы, поторапливает:
– Веселей шагайте, старички. Нам еще места надо занять среди почетных гостей. Вместе с мэром и губернатором сидеть будем.
Рафик Мустафаевич знает все, он активный член Совета ветеранов. Немало помог он убитому горем Безрукову в организации похорон жены, немало помогал и другим. С виду добродушный великан, Сайфутдинов обладал твердым характером и упорством, поставленных целей по большей части добивался, не смотря на чиновничьи препоны. Одним словом, разведчик.
– Не суетись, успеем, – успокаивает Никитенко.
Безруков замечает одинокую старушку в розовой вязаной кофточке и цветастом платке; сухонькую, невысокого росточка. На груди три медали.
«Связистка? Зенитчица? Работница тыла? Может как его Катюша санитарка? Какая разница. Неужели она не заслужила возможности посмотреть парад Победы. Победы, в которую вложена толика и ее труда, сил, здоровья». Скромно стоит позади зрителей, время от времени приподымается на цыпочки, чтобы увидеть, что происходит за этой живой, но бездушной стеной. А там, уже слышится многоголосье: «Ура! Ура! Ура!». Это командующий войсками гарнизона объезжает построенные в коробочки, участвующие в параде подразделения.
Безруков трогает Никитенко за локоть:
– Миша, смотри, – кивает на старушку.
– Надо помочь.
Оба направляются к старушке.
– Все, теперь точно опоздаем, – констатирует Сайфутдинов и с обреченным видом следует за товарищами.
Подошли, поздоровались, поздравили с праздником. Шустрый Никитенко тут же приступил к «боевым действиям».
– Пропустите. Раздвиньтесь. Дайте дорогу ветеранам, – вежливо отодвигая людей, Никитенко приближался к цели. За ним, словно арктический караван судов за ледоколом, следовали старушка, Безруков и Сайфутдинов.
– Иван Степанович, а как же места? – сделал последнюю попытку Сайфутдинов.
– Ничего, здесь постоим.
Сайфутдинов достал из кармана сотовый телефон, набрал номер:
– Анатолий Филиппович, нас не будет… Так сложились обстоятельства.
Никитенко уже достиг цели, когда путь ему преградила дородная дама в новомодном кепи с пятилетним мальчиком на руках:
– Куда лезете?! Что, если ветераны, все вам позволено?! Вам отдельно места должны выделять!
– Вы что такое говорите! Разве так можно?! – вступилась за Никитенко черноволосая, большеглазая женщина с родинкой на подбородке.
– Можно! У меня ребенок.
Сайфутдинов навис над дамой:
– Давай, дочка, я подержу.
Белобрысый мальчонка в «бейсболке» только этого и ждал, мигом перебрался с рук матери на увешанную наградами грудь ветерана.
«Вот силища-то, а я уже не смогу. Самого бы кто поддержал», – подумал Безруков.
– Дедушка, а это что за медаль?
– Это «За отвагу».
– Дедушка, а эта…
«Дедушка – слово-то, какое хорошее, ласковое». – Безрукову вспомнились слова девочки Маши – «Дедушка, не плачьте…» Слезы вновь навернулись на глаза. Ему редко приходилось слышать это греющее его одинокую старческую душу слово – дедушка.
Заиграл оркестр. Военные колонны двинулись по улице под ликование и аплодисменты зрителей. Вот она гордость России, ее защитники. Летчики, пограничники, войска специального назначения в краповых беретах, морская пехота, моряки… Никитенко приложил пальцы правой руки к бескозырке, желваки на лице задергались… Идут красиво, печатая шаг. Вспомнились фронтовые дороги: снежно-грязевая жижа, заляпанные полы шинели, тяжеленные от налипшей глины сапоги, застрявшее в луже орудие, которое надо вытащить во чтобы то ни стало, а силы уже на исходе…
Пошла военная техника – танки, бронемашины, ракетные установки – стальная мощь страны.
«Эх, если бы нам тогда такую силу, война закончилась гораздо раньше».
Парад окончился, но праздник продолжался. На площади народные гулянья. Гремит оркестр, на сцене молодые девчата и парни в военной форме Великой Отечественной Войны танцуют под мелодию «Калинки». Вокруг дети, разноцветные воздушные шары, цветы, радостные, добродушные лица… Хорошо, солнечно.
– Ну, что на банкет? Автобусы уже ждут, пригласительные у меня в кармане.
– Извини, Рафик Мустафаевич, я домой. Устал.
– Раз так, наливай, Михаил Федорович, еще по одной.
Налили. Выпили. За погибших товарищей. За Победу.
– Теперь на посошок, – Никитенко налил еще порцию. – За то чтобы нам в следующем году собраться в полном составе!
– У меня давление. Вы что хотите меня в гроб загнать, – попробовал отказаться Иван Степанович.
– Типун тебе на язык. Только посмей. У меня на следующий год уже коньяк припасен, а ты гроб.
Безруков улыбнулся:
– Наливай, красноречивый ты наш. – Осушил пробку, заел шоколадной конфетой, предложенной Никитенко.
– Пора нам, автобус ждет. До встречи, Иван Степанович, – Сайфутдинов прижал Безрукова к своей могучей груди.
– Свидимся…
* * *
Возвращался Иван Степанович тем же путем. Боясь повторения произошедшего утром, в нерешительности остановился у пешеходного перехода. Синие «Жигули» затормозили перед «зеброй». Водитель, мужчина средних лет махнул рукой – «Проходите». Иван Степанович сделал шаг вперед, остановился. Белая иномарка поравнялась с «Жигулями». К зеркалу привязана георгиевская лента. Из открытого окошка со стороны пассажирского места выглянула молодая рыжеволосая девушка, помахала рукой:
– Идите дедушка. Идите. С праздником вас! С Днем Победы! – нырнула внутрь, отпихнула парня сидящего за рулем, нажала на сигнал. Звук, исходящий от машины, показался Ивану Степановичу торжественным, словно музыка военного оркестра на площади. Мужчина, сидевший за рулем «Жигулей», последовал примеру рыжеволосой девушки. Их поддержал водитель подъехавшего маршрутного такси.
«С праздником! С Днем победы!» – слышалось в этой какофонии звуков.
Плечи распрямились сами собой, грудь вперед и зашагал… Твердо, четко, словно генерал перед строем. Хромота пропала, словно ее никогда не было. И слезы. Слезы радости, гордости, счастья. Да и как в такой день без них…
* * *
По ступеням поднимался медленно. Ноги едва держат, отяжелели, словно пудовые гири к ним подвесили, сердце бешено колотится. Никуда не денешься, возраст дает знать о себе. На веранде передохнул, пошел дальше. Из Маришкиных дверей слышна ругань. Маришка распекает пьяного супруга. «Не иначе Борька сегодня опять будет угрожать самоубийством».
У дверей ждал Филимон. Укоризненно мяукнул, мол, где это ты хозяин пропал?
– Что нагулялся, бродяга? Сейчас открою.
Безруков достал из кармана ключ, отворил дверь. Первым вбежал Филимон, следом вошел Иван Степанович. В квартире тихо, пусто, одиноко. Включил телевизор. Речь президента.
– Слышишь, Филимон? Нам квартиру новую обещают. Теперь штукатурка с потолка тебе в миску сыпаться не будет.
Снял костюм, рубашку. «Надо отдать Маришке, пусть постирает, погладит. После в шкаф повешу до следующего раза. Только будет ли он, следующий раз?». Вздохнул, побрел шаркающими шажочками на кухню. Перекусив, вернулся в зал-спальню, сел на диван смотреть телевизор. Старый диван недовольно скрипнул.
– Будет тебе ворчать то. – Иван Степанович погладил потертую кожаную обшивку. На экране шел фильм про войну. Иван Степанович пытался вникнуть в суть происходящего, но усталость и выпитый коньяк давали о себе знать. Несмотря на все усилия, веки ветерана закрывались сами собой. Дремота брала верх.
Перед тем как полностью отдаться во власть сна подумал: «Доживу ли до следующего Дня Победы?» Перед глазами поплыли образы рыжеволосой девушки, Сайфутдинова, Никитенко, девочки Маши и ее отца сказавшего «Вам спасибо… за Победу». «Должен дожить. Ради всех этих людей должен. Как в песне – «Всем смертям назло!».