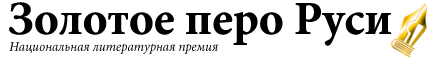«Да, это действительно роман обо мне» — подумала я, перелистав буквально самые первые 30 страниц. А дальше попала как в омут: в неуютность жизни, другой жизни. Другой. Но такой же неуютной, как моя, не смотря на видимое благополучие. Хотя они разнились по вертикали и горизонтали. По национальному быту и структуре общения. Жизнь писателя – вечный поиск! Книга «Роман о себе» — поиск самого себя.
Поиск меня в этом романе. Но ищет меня Борис Казанов! Думаю, каждый литератор, взяв в руки эту книгу, почувствует то же. Это его ищет Борис Казанов. Его пропащего. И себя… Как это объяснить? Это роман о нем, о том, кто будет читать: « потратить десятки лет на пустое ожидание, на безнадежное стукание головой о стенку, питая год одной счастливой минутой, если удавалось ее расщепить, как оболочку атомного ядра».
Впервые об авторе Борисе Казанове узнала как-то даже случайно. На конкурс пришел рассказ «Москальво». Когда «сидишь» в жюри и «вычитываешь» тысячи произведений, ставя пометки на полях: «не то», «не то», «не то», и вдруг удивляешься: «ТО!». Наконец то ТО! Вчитываешься и уже не можешь оторваться ни от стола, ни от строки, пока до конца не выпьешь залпом. «Москальво» потряс умением пользоваться словом. Смотрю на страну, откуда пришло произведение, и не верю собственным глазам. Израиль. Проверяю, может быть, ошибка? Недоразумение? Нет. Израиль. Кацрин. Не может быть! Стопроцентное попадание даже не в десятку, в сотню, в тысячу!
Я никогда не видела лица Бориса. Вместо этого вглядываюсь в «Роман о себе». Хорошее название…
Жизнь. Девушки, женщины. Интимные откровения, граничащие с обнажением мышц. Читая, боишься остаться без кожи. А вдруг он опишет и то, что так привыкли скрывать. И это получается просто и естественно. Но интимные моменты, лишь часть философии. Жена. Теща. Дочь. Друзья… Быт, помогающий и мешающий жить, понимать, творить. Он повсюду в «романе о себе» с его затхлостью и безнадежностью понять муки творчества: «Я вышел. Сколько недель я уже не выходил никуда? Думаю, месяц, или больше. Тотчас открылась квартира напротив. Выглянула соседка, чтоб удостовериться, что это я. Безвредная, по сути, женщина, она обладала каким-то высматривающим устройством, вроде запрятанного в себе, как у монстра, механического глаза. Я мог быть уверен, что мой выход будет теперь обговорен и увековечен на скамейке перед подъездом»…
Скорее всего, Борис Казанов перешагнул тот рубеж, где лягушачьи выкрики национальных меньшинств, кто громче, пытаются заявлять о себе из каждого небольшого автономного болотца. Так однажды, Данию прославил Андерсен. А Швейцарию – сыр! Вот поэтому я, женщина, а не мужчина, русская, а не еврейка, понимаю эту вещь, как свою, всасываюсь в каждую страницу, с болью воспринимаю обиды, размазывая по лицу энергетическую кровь: «Мы впервые пошли в Рясне сниматься: дед, бабка и я . На мне была шелковая рубашка, которую бабка Шифра сшила из подкладки старого пальто, и такой же шелковый красный галстук. Фотограф, коротконогая тетка, даже умилилась, меня увидев: «Какой пригожий черноглазый мальчик!» было весело стоять в саду, в кустах цветущей сирени. Все шло хорошо, пока бабка не начала уламывать фотографа снять меня на отдельную фотокарточку. Не было денег, чтобы за две рассчитаться. Фотограф нехотя уступила. Отвернув платок от уха, она повела в мою сторону фотообъективом, как прицеливаясь из круглого, отсвечивавшего чернью ствола. Я уловил какую-то злонамеренность этого движения, хотел спрятаться за куст. Она крикнула с раздражением: «Стой, жиденок, на месте!» — и получилась бесплатная фотография. Всю жизнь я ее достаю и смотрю».
Мне было обидно. Мне! Как будто Моцарта или Чайковского обозвали вдруг гоем! Изгоем! Почему я сравниваю Бориса с Великими мира? Для меня он, как Кукл Ян, на которого нечаянно капнула капелька русской крови. Может быть поэтому он так мастерски владеет словом?
Многогранное зеркало-шар. Роман? Нет. Срез мыслеобразов. Философское осмысление без обид. И в экстазе резонанса выплескивание себя на новый ментальный уровень за пределы смерти.
Как выяснилось из романа, биография этого писателя удивительна, ей мог бы позавидовать любой профессиональный путешественник. Многие годы Борис Казанов отдал необычным плаваниям на зверобойных и китобойных шхунах, географических экспедициях и экспедициях по подъему затонувших судов. Выбрав морскую стихию, как сообщницу своей творческой судьбе, он стал первооткрывателем новых тем и сюжетов в литературе, создателем ярких книг, которым не суждено постареть. Я открыла интеренет с его именем, и залпом прочла все, что под ним опубликовано. Чтобы дать характеристику Борису, достаточно было бы назвать вышедшие в Москве в «Советском писателе» сборник рассказов «Осень на Шантарских островах», 1972г., и роман «Полынья», 1984г.
Василь Быков, прочитав «Шантарские острова», прислал Борису восторженное письмо: «Все рассказы в сборнике подобраны удивительно равные, нет ни одного слабого или слабее других. Часто при чтении даже возникала мысль: как это напечатали? То есть это настолько хорошо, что совсем не по времени».
Действительно, книги писателя, вышедшие в застойные годы, в период жестокого самовластия партийной цензуры, не содержат… даже упоминания о советской власти.
Это прецедент, не имеющий объяснения.
Профессор Миннесотского университета литературный критик А.Либерман задается этим вопросом в рецензии на книги Казанова в «Новом журнале» и отвечает как человек, который не может вообразить невообразимое. Он объясняет выход книг этого писателя в те времена «каким-то чудом». Думается, чудес не бывает, а объяснение все-таки есть. Даже цензоры — люди, читатели. И когда цензор погружается, например, в головокружительный сюжет романа «Полынья», то даже у него не поднимается рука что-то в этом романе исправить. «Таких захватывающих описаний нет, наверное, ни у кого: каждое движение водолаза подобно прощупыванию минного поля, и замедленная съемка течений, камней, рыб (непридуманный вариант прогулки капитана Немо) — образный язык, нестандартные краски, как будто для таких описаний и существующие, — все свидетельствует о большом таланте. «Полынья» выдерживает сравнение даже с такой замечательной книгой, как «Три минуты молчания» Георгия Владимова» (из рецензии Либермана). Апофеозом профессорского восторга служат слова: «Если верить «Спартаку» Джованьоли, затравленный Суллой Гай Марий говорил себе в самые страшные минуты: «Я побил кимвров и тевтонов». Оборачиваясь назад, Казанов может сказать: «Я написал «Полынью».
И снова «Роман о себе». Это – совсем другое, чем Шантары и Полынья. Здесь психологические слои внутреннего мира как бы разными музыкальными инструментами вступают по очереди в игру оркестра души.
Перелистываю лихорадочно страницы в обратном порядке. А! Где же это было? Где? Утерянная строчка, которую помню, как взгляд любимого мужчины. Ну, вот же она, вот: «Я видел целое кладбище погибших китов возле бухты Корабельная и могу со слов Белкина, сказать: эти животные, обладающие электромагнитными радиоимпульсами, попадаются на таких вот участках моря, где волны, наслаиваясь, создают ложный радиокоридор. Попадая в этот коридор, киты выбрасываются на берег… Волны, которые создают глубочайшие провалы, какие бывают и в человеческой жизни. Воздух в волнах, сжимаемый в газ, одурманивает сознание, объясняя грезы и слезы, и потерянные мечты. Все это я испытал сам, записал, привез, но так и не донес до стола…»
Я давно не получала такой радости от полного врастания в текст. На мой взгляд, он не окончен, как не кончается поиск творческой личности, как не умолкает
голос, живущий в нас. Это письмо. И теперь я не знаю — письмо мне ли, себе?
Богу? Без начала и конца, без сюжета и середины. Письмо небезобразное и не
безобразное. Жизненное. Автор хотел избавиться от какой-то боли? Какой? Ведь
талант — это не боль — это обязанность. И право! Преступление( именно
преступление, потому что писателю дано то, что преступить никто не может) и
наказание! А национальность — у талантливых авторов ее нет. Если понятны их строчки здесь в Москве, и в Беларуси, где стал Борис Казанов членом союза письменников. Членом Союза Писателей в России. В Приморском Владивостоке, откуда уносили его китобойные шхуны в охоте за гениальными рассказами, его понимали так же как в Израиле, где сейчас живет.
Вопрос национальности поднимается время от времени, как едкий и жесткий упрек Богу за то, что сделал нас разными. Отвечая на мои свежие отзывы на его последний роман, Борис прислал по электронке: «Но какие бы трагические не преследовали Вас видения, в них нету стыда и недоумения, что тебя родили в другой стране, а своей у тебя нет. И только в том случае, к какому я себя причисляю, когда эту боль, Вам неизвестную, пережигаешь любовью, и когда получается об этом сказать, ты живешь, не трепеща, что тебе не поверят люди, которые тебя читают».
Светлана Савицкая
РОМАН О СЕБЕ
(отрывок)
Впереди вырисовался низкий, кирпичной кладки приемный пункт стеклотары.
Дверь открыта, заложена камнем. Люди, переполнив помещение, уже
выстраивались перед входом, скульптурно оформленным свисающими сосульками.
Очередь росла, круглясь по краю налитой лужи. Блудливые старики, бабы с
синяками… Хотел пройти мимо, но остановился: уж если ларек открыт, надо
воспользоваться! Весь балкон заполнен посудой, смерзшейся в снегу, кто
побеспокоится? Из тех бутылок, если сдать, получится дармовая сумма. Как раз
возместит урон из-за проездного талончика. Мне хотелось доставить радость
Наталье, а заодно и себе, так как я сэкономлю на долларах. Притом, сдать
бутылки, при любой очереди, мне ничего не стоит. Обязательно объявится
кто-либо, знакомый или нет, и пропустит вперед. Стоило постоять пять минут,
хотя бы проверить.
Только занял очередь, как из разнопородной собачьей своры, привязанной
к бордюрчику, отделилась приземистая свободная сучка и меня облаяла.
Нехороший знак, но за меня вступились две шавки и ее перелаяли. Сучка
сконфуженно завиляла, смолкнув, и на нее неодобрительно повела пальцем
стоявшая передо мной очередница:
— Вот эта! Знаю ее хозяина… — Тут вышел некто: державного вида, хоть
и пообносился; шишка на пенсии. Сучка засеменила к нему, а очередница
закричала, переведя палец в сторону хозяина: — Вот этот! Чего я говорила? За
ним побежала…
Все оглянулись на хозяина собаки; он удалялся, ворча под нос,
опозоренный. Не стоило разбираться; тут нравы свои, я к ним привык и уже
нормально вписался. Если меня сейчас кто-либо позовет, очередь не возразит:
«человек достойный» — вот вся реакция. Вдруг как буря пронеслась внутри
ларька: «Принимают только чистые!» Сразу возникла перестановка: те, кто
посуду не мыл, начали временно выходить, устраиваясь вокруг лужи. А мы, чтоб
дать им место, подвинулись поближе к крыльцу. Оказался под сосулькой,
похожей на заостренное копье, истончившейся у основания. Уже вполне созрела,
чтоб упасть, и я загадал по привычке. Так я загадывал на «Квадранте» насчет
лебедочного противовеса. Перетершийся, с тонну весом, он раскачивался,
подстерегая нас, в «кармане», где я стоял с напарником при тралении, и упал,
когда я из-под него отошел, надоев, должно быть, своим загадыванием.
В очереди меня тотчас предупредили:
— Вверх не дыши!..
Так замечательно выразился очередник, стоявший за мной. Я повернулся,
растроганный: это был тот самый, что упал, в галошах. Мужик со мной
поздоровался, как ничего между нами не было. Уловил хорошую атмосферу вокруг
меня. Я достал «Мальборо», он попросил, я отказал, объяснив, что не делюсь
сигаретами. Мужик понимающе кивнул: «Дорогие!» — достал свою «Астру», и мы
закурили, смешав дым.
Меня удивило: чего я стою, в самом деле? Даже если я и выбрался
куда-то, как из-под палки, то это не значит, что я вернусь сейчас ради
бутылок в общество Нины Григорьевны. Может, я собираюсь описывать этот
ларек? Не стоит стараться! Это уже сделал Михаил Кураев в своем великолепном
«Капитане Дикштейне», сразу перечеркнув пером все посудные ларьки в русской
литературе. Так чего я стою? Стою и баста! И готов стоять хоть у отхожего
места, если меня там будут вот так принимать.
Однако свои пять минут я уже отстоял.
Вот увидел человека, который был мне знаком: пожилой, с бачками, с
остатками былого «кока». Ни фамилии, ни имени его я не знал, только издалека
припоминал это костистое, горбоносое лицо, легко становящееся в профиль, как
на медали. То был знаменитый легкоатлет, победитель Европы, и с ним
случилось самое скверное, что порой случается с не жалеющими себя,
выкладывающимися спортсменами. Теперь это инвалид с прогрессирующим
параличом; не опустившийся, а лишь обособленный. Не помнил его выпившим,
никогда не видел с женщиной, хотя за пустую бутылку он мог снять едва ли не
любую из очередниц. Я внимательно смотрел, ничего не пропуская, как он,
установив негнущуюся руку, похожий на дискобола, готовящегося выпустить диск
поверх раскорячившихся, как бы присевших в испуге теток, — пульнул не диск,
а сетку с бутылками, угодив в чистоватое, не взбаламученное место. Поводил
сетку в луже, приподнял, пока сольется вода, развернулся и, заметив, что я
смотрю, сказал без всякого скептицизма, как о проделанной работе: «Помыл».
Уже отшагнув, он сообразил, что я смотрел не просто так; обернулся,
сказав: «Ты стоишь за мной!» — и показал не на тех, что под сосульками, а
ткнул пальцем в заветную глубину помещения.
Очередь не возразила, что я сказал? Но разве я мог его местом
воспользоваться? Я сказал: «Спасибо, брат», — и вышел из очереди.
Борис Казанов
Публикация газета «Молодежь Московии» г. Москва 2007 г.