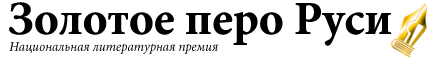Человеку, взявшему рюмку,
и подумавшему: пить или не пить? –
посвящаю
автор
Глава 1. «Кто в доме хозяин?»
1
Дед проснулся с великого «бодуна». С возрастом запои становились всё длительнее, а выходы из них – всё мучительнее. Но проблема была не только в этом. Проснулся дед не в собственной постели и не в своём доме, а на каких-то задворках хозяйственных построек в соломе. И несмотря на сильные головные боли и общее физическое недомогание в связи не только с алкогольной зависимостью, но и с букетом старческих болезней, он всё-таки чётко знал и столь же чётко мог рассказать любому, хоть под присягой на суде, как докатился до такой жизни.
Три года назад от него ушла жена. Не просто ушла, а постыдно тайком бежала, и это после сорока лет совместно прожитой жизни. В небольшом посёлке, только по административному статусу и называющимся районным центром, где все друг друга знают, с её же лёгкой руки долгие годы бытовало мнение, что он, дед, горький пьяница, конченый алкоголик, дебошир ещё тот, жить с которым даже у такого ангела во плоти, каковою считала себя бабка Вера, уже не хватает терпения.
Правда, как известно, у каждого своя. Но жалобы со стороны деда Ивана на жену никогда не поступали, поэтому общественность чётко поддерживала Веру: да, несчастная женщина, поживи-ка с алкашом и хулиганом сорок лет!
Вера укатила не одна. Сначала зашевелилась дочь с семьёй, живущая в том же доме, что и старики, только с отдельным входом. Дескать, одолел старый хрыч своими пьянками-гулянками, день и ночь ломится в двери, грозится вышвырнуть на улицу, выясняя, «кто в доме хозяин». Да ещё имеет дурное влияние на зятя, тоже от выпивки не отказывающегося. Нашли молодые на родине зятя достаточно проигрышный вариант (деревенский дом без удобств, вдали от цивилизации), сагитировали с собою бабку Веру, и в один прекрасный день, когда дед находился в очередном запое, погрузились на колхозные грузовики, и только их и видели.
Дед с их отъездом даже повеселел. Стал в открытую принимать свою давнюю подружку Лушу, а точнее – собутыльницу, которая по годам хоть и была помоложе, и по характеру бойчее, но внешне мало от деда Ивана отличалась. «Два сапога – пара», – ехидничали про них в посёлке.
Лушка не долго побегала гостьей. Через месяц уже обосновалась новой хозяйкой у деда, а ещё месяца через три на удивление всем привела к деду и своего более молодого и бедового любовника, недавно отмотавшего срок. А где за бутылкой собрались трое, там друзей несть числа. Так в покинутом женой, детьми и внуками доме образовался настоящий притон, и вызовы милиции по ночам перестали удивлять соседей.
2
Иван пристрастился к вину в зрелом возрасте. Был он сложения хлипкого и здоровья неважнецкого. И вино в него не шло. Как входило, так и выходило. Не принимал организм ни курева, ни алкоголя. Здоровье было такое, что в молодости для Армии его признали не годным. Но настоящим бичом стали для него хронические ангины. И то, что для ребёнка было вполне переносимо, для взрослого мужика оказывалось едва ли не смертельным. Однажды такая вот ангина, врачом научно названная гнойным фарингитом, едва не свела Ивана в могилу. Тот случай, когда в горло не проходила не только еда или вода, а и в бронхи перестал проходить воздух, так что ночью он стал задыхаться, и, струсив, прощаться с жизнью, запомнил Иван надолго. Это было на родине, в гостях у старшей сестры Антонины. И сестра, поднятая женою среди ночи, без врачей и аптек выходила братца одним махом. Она достала керосина (чего уже и не во всякой деревне можно разыскать) и заставила Ивана выпить столовую ложку этой гадости. Иван мотал головой и наотрез отказывался. На что всегда сдержанная Антонина резко сказала:
– Пей, всё равно помрёшь, – и насильно влила в рот ослабевшему от болезни брату не ложку даже, а полрюмки.
И – о чудо! К утру Иван попросил чаю.
Лечиться, а тем более лежать по больницам ему, как и любому нормальному мужику, было вовсе делом несносным. И врач, к которому Иван всё-таки в крайних случаях обращался, присоветовал ему в виде профилактики (не дабы спиться, а лишь для здоровья) принимать до еды по ложечке водочки. И против ангины, и для аппетита. А потом всё-таки, когда адаптируется организм, по полстопочки. Как лекарство. Что и начал делать Иван регулярно. И тошнить его от водки перестало. А главное, и здоровье заметно улучшилось. Из хлипкого мужичонки, на котором и штаны-то держались непонятно каким образом, и цыплячья шейка, торчащая из воротника рубашки никак не придавала солидности, Иван, округлившись и взматерев, стал мужчиной завидно видным.
Несмотря на врождённую нечистоплотность, с которой Вера боролась, сколько могла, но уже и перестала бороться, Иван, к слову сказать, смолоду и до старости всегда пользовался большим спросом у противоположного пола, чем доставлял преданной жене настоящее горе, прямо-таки трагедию, смириться с которой она так никогда и не смогла.
И вот уже когда такой адаптированный к водке и вполне её переносящий зрелый мужчина оказывался в компаниях, он, что вполне естественно, стал ставить перед собой определённые, «ещё те» цели: а сколько же я смогу «поднять» – больше или меньше пьющих мужиков? И оказывалось, что ничуть не меньше, мог выпить порядочно. Но главным открытием Ивана было то, что спиртное его «не забирало». Он пил наравне со всеми и оставался трезв. Не просто трезв, а «как стёклышко». Так, что мог после бурной попойки идти, как ни в чём не бывало, на работу, или с наслаждением предаваться своему любимому хобби – чтению книг и газет.
Ввиду своей завидной во всём основательности, Иван и в вопросах питейных проявил много изыска, и под открытое в себе новое призвание – пить и не пьянеть – подвёл настоящую научную основу. Он истощил районную библиотеку, перетаскав на дом всю литературу, касающуюся питейного вопроса, и доподлинно знал все тонкости влияния алкоголя на организм человека; вред и пользу, дозировки и периоды алкогольной деградации; знал о необходимости давать с помощью алкоголя организму «разгрузку» от стрессовых состояний, и о другой необходимости – давать организму «разгрузку» от запоев с помощью целой системы выведения отравляющих веществ.
Предметом разговоров Ивана не только с собутыльниками, но и с родными в семье, всё более и более становилось вино. А поговорить Иван умел и любил. Так, что слушатель, даже враждебно настроенный к его любимой теме, мог заслушаться и удивиться глубине и объёму его познаний. Но период алкогольной стойкости оказался не столь продолжительным, и Иван, сам не заметив как, стал хмелеть от выпитого не меньше, а иногда и больше товарищей. Появился похмельный синдром, перешедший, опять же незаметно, в запои. И по каким бы то ни было своим научным системам и расчётам не «загружал» Иван свой организм водкой и не «разгружал» и очищал его от неё же, а всё-таки не миновала его верная спутница алкоголика – депрессия. А вместе с нею – и болезненно обострённый поиск смысла жизни, и вполне философское определение своего места в жизни, и мнение о том, что место это не вполне соответствует его, Ивана, личности, и желание доказать себе, а ещё более – всем вокруг, что он, Иван, хозяин своей жизни, и жизнь его (в отличие от других) не просто пребывание на грешной земле, а исполненное какого-то особого предназначения и смысла служение.
Понятно, что в заморочках пьяного мужа ограниченная женским умишком Вера, по своей душевной нечуткости, не могла и не хотела разбираться. А собутыльники хоть и слушали с удовольствием кураж заумного зазнайки, но слушали ровно столько, насколько хватало вина.
И чем больше людского непонимания встречал Иван, тем больше он был неудовлетворён собой. Искал себя и не находил. Вновь и вновь пускал себя в распыл, в разгул, а вовсе не в «особое предназначение», которое возможно смогло бы составить истинную суть этого по-своему неординарного и талантливого человека.
Как это мог бы предвидеть любой, даже не читавший книг об алкоголе, просто наблюдательный человек, Иван, пройдя все этапы становления алкоголика, и став таковым, растерял и настоящих друзей, обходясь компанией случайных собутыльников, и уважение родни, и любовь преданной Веры, оказавшейся постепенно вообще за бортом его супружеских обязанностей.
3
Иван долго не мог определиться в жизни. Он менял работы, менял женщин, учился то в одном, то в другом – то в институте, то в техникуме, бросал и снова поступал, но и получить сумел два среднетехнических образования, правда, заочно. Семью создал около тридцати лет, но и от семьи бегал то к одной подружке, то к другой, всё не мог угомониться. И работы менял не реже, чем своих женщин. А со сменой работы менялось и место жительства. И катался Иван со своей всё увеличивающейся семьёй из района в район по области, нигде не сумев обрасти и разбогатеть, так что в родне в шутку называли его «голью перекатной».
Был Иван грамотным, и как специалист везде ценился. Имел две основных специальности – связиста и электрика, и несколько сопутствующих. В последние лет двадцать работал оператором газораспределительной станции, обслуживая и обеспечивая район природным газом, а на подработках – дежурным техником в котельной. Со временем осел, остепенился, утратил тягу к переменам мест.
Было у Ивана (помимо чтения умных книжек) два увлечения, две страсти, два призвания: строительство и пчеловодство. Строитель он был Божией милостью, поискать таких. На малых окладах с многодетной семьёй многого не могли позволить себе Иван и Вера, и надеяться приходилось лишь на свои золотые руки. Иван столярничал, да ещё как. Комодик с выдвижными ящичками, самодельные кровати и тумбочки, столы и шкафы – всё обнаруживало в нём незаурядного столяра. Причём творил он свои произведения из самого бросового материала. Например, пчелиные ульи собирал из тонких узеньких дощечек, расколачивая тарные ящики из-под южных фруктов, которые в огромном количестве выкидывались из магазинов и сжигались за ненадобностью. Он подбирал на помойках и задворках, тырил с территории «Сельхозтехники» и со стройки всё, что плохо лежало: гвоздик, кирпичик, досочку, не брезгуя ничем, и вскоре заслужил звание «Плюшкин». И сколько не переезжал, прозвища своего не утратил до старости.
С каждой сменой жительства на новом месте Иван начинал обживаться с устройства насыпного погреба. Холодильников не было, и Ивановы погреба были достоянием семьи. Углубленное (но неглубоко, чтобы не потревожить подземные воды) основание Иван бетонировал по периметру под фундамент, возводил «нулёвку», затем невысокие стены, перекрывая их плитами. А сверху засыпался толстый слой земли, обеспечивающий (как и плотные двойные двери) вечный ледник на всё лето. Все ненужные тряпки, бумажки и прочий непищевой хлам домашние тоже забрасывали на погреб в качестве утеплителя, превращая строение в свалку местного значения.
В лето эта насыпная землянка буйно зацветала одуванчиком и сурепкой, что бесило местного фельдшера, требующего непременного облагораживания участка. На что Иван вполне научно объяснял, что сурепка и одуванчик – это вовсе не сорняк, а медонос, так необходимый для его пчёлок, которым в условиях рабочего посёлка взяток брать негде.
Но истинное строительство – строительство домов – не отпускало Ивана всю жизнь. Первый свой дом он построил по молодости, ещё живя своей уже пополнившейся первенцем семьей у родителей. Срубил он его на первые Веркины декретные деньги. Рубил сам, и хоть материал был так себе – осина, но простоял дом долго. Этот дом был явлением русской изобретательности и смекалки. Материалу хватило лишь на две стороны. А с других двух сторон дом был засыпной: сооруженная опалубка из досок, засыпанная дармовой нажигой, вывезенной с асфальтового завода. Иван сам клал печки, штукатурил, обрабатывал антисептиком.
Этот дом, выстроенный в райцентре рядом с родительским, Иван решился продать в хрущёвскую «оттепель». Семья увеличивалась чуть ли не с каждым годом, а малых детей без молока поднять было нереально. Теперь из учебников истории, а Иван из жизненного опыта имел возможность познать вредность хрущёвских сельскохозяйственных реформ. Никита Сергеевич под корень искоренял частную собственность, а вместе с коровами не стало и молока.
Больше всех донимала отца старшая вредная Тамарка, уже самостоятельная, и живущая на два дома: родительский, и дедушкин-бабушкин, через плетень, в котором появилась на свет. Тамара с утра разводила демагогию, шпыряя пальцем то Серёгу в качке, то Танчу в люльке, чтобы громче ревели, при этом будто с собой рассуждая: «Мама работает, папа работает, дедушка работает, бабушка работает, тётя Тая работает, дядя Жора работает, а купить детям баночки молока не могут». Это доводило Ивана до белого каления, и он решился.
Уехали в деревню. Там на приволье детки и выросли на козьем молочке, а семья увеличилась ещё на двоих.
В деревне Иван построил свой второй дом. Опять же не очень, потому что денег, вырученных за проданный в райцентре дом, хватило лишь на три стены. К слову сказать, ни один свой дом Иван не продал за настоящую цену: строитель был хороший, а коммерсант – никудышний. Изобретательный, как и всякая голь, на выдумки, Иван четвёртую стенку соорудил из лозы, переплетая её как плетень, и обмазав густо глиной – добро этого материала у реки (а дом был крайний) не занимать. Весной лоза укоренилась и пустила побеги, а через год уже наросли заросли, так что Вера вечером боялась выходить.
Детки росли, и требовалась школа, в деревне же была только начальная. И снова Иван в поисках работы и теперь уже цивилизации, двинулся с семьёю в соседний райцентр. Несколько лет они проживали в казённых квартирах, но мечта о собственном доме оставалась. В зрелые годы он решился на очередное строительство. Но силы были уже не те, от родни он оторвался, уехав далеко, а свои помощники ещё не наросли, да и были в помощниках три девки, а оба пацана тяги к отцовскому призванию не выказывали.
Иван, работая на двух работах и постоянно калымя, сумел скопить немного денег, и купил по дешёвке на Орловщине, откуда деревнями бежал народ и даже сёла безлюдели, уже готовый сруб, добротный и просторный, на две семьи. В этот дом они и перешли из барака, и ещё несколько лет Иван выгодно сдавал вторую половину квартирантам.
Дети выросли и разъехались, кто учиться, кто искать счастья. А назад никто не рвался. Иван, к тому времени и по возрасту и по статусу став дедом, начал крепко «закладывать за воротник», скандалить, драться, и всё не мог то ли выяснить для себя, то ли обозначить для других, кто же хозяин в этом таком выстраданном и долгожданном, но совсем опустевшем, никому не нужном, доме. И только Тамара с семьей, уже после того, как выяснилось, что дети у неё «не садиковские», и без бабушкиной помощи не обойтись, вернулась под родительский кров в ту половину, что называлась «квартирантской», и, стиснув зубы, отжила здесь пятнадцать лет, пока не выросли дети. Отжила, как срок отсидела, ежедневно просматривая и прослушивая «спектакли» пьяного отца, а частенько и участвуя в них, защищая мать.
4
Вторую свою страсть – пчёл – Иван так же таскал за собою с одного местожительства на другое, и знал о них больше, и любил их крепче, чем собственных детей. Разводить пчёл он стал ещё в парнях, поймав однажды рой в лесу, и начиная с плетёного лукошка и листка вощины, одолженного соседом-пчеловодом, прежде всего убедившимся, что его собственные пчелы не роились, рой – не слетал, а значит, у парня – не его рой.
Страсть мужчины – рыбалка, охота, машина и т.д. – это нечто, куда не смеет засовывать нос жена. Это известно и поначалу свято для всех жён. И Вера, как и все жёны, поначалу тоже к пчёлам – святому для мужа – не совалась. А пчёлы – вообще увлечение даже не всякому мужчине по зубам. Это – не рыба: не клюют, а жалят.
Иван, от рождения хиляк и золотушник, с вечными соплями и мокрыми золотушными корочками на ушах и подбородке, пчёлам сразу не понравился. Вдобавок он был ещё и потлив, чего пчёлы, как и все прочие запахи слабого человека, страсть не любят. А потому жалят нещадно. От первых укусов Иван лежал в лёжку с температурой, опухал, чесался, так, что даже брал больничку. Страшная аллергия лишала его сна и аппетита. Но дней через пять-шесть он настойчиво шёл к леткам, и подставлял руки для новых укусов. Руки – не лицо, но всякому известно, как сильно отекает, болит и дёргает раненая конечность, гораздо труднее и чувствительнее перемогаясь, чем, положим, извините, раненая задница.
Постепенно у Ивана выработался иммунитет на пчелиный яд, и пчёлы смирились даже с его потливо-сопливо-золотушным запахом, признав за своего. А многочисленные книжки и ежегодно выписываемый журнал «Пчеловодство» вскоре позволили Ивану считаться профессионалом в своём увлечении.
Страсть к пчёлам имела прямые выгоды. Раз в год, летом, недели на две-три, а то и на месяц, Иван с двумя-тремя такими же любителями и пасеками уезжали «на кочёвку» в поисках взятка для пчёл. Иван хотя бы ненадолго уходил от домашних проблем, от становящейся с годами всё более занудливой жены, от растущих и отстаивающих своё место под солнцем пятерых детей. А возвращаясь, доставал медогонку, и в семье начинался период ликования и счастья. В это время – как по вызову – в гости на недельку-вторую всегда нежданно слетались племянники погостить. Дети, как пчёлки, облепив таз со срезанными с сот «крышечками», смачно разжёвывали воск и ссасывали мёд, и в уплату за удовольствие, по очереди, чуть ли не в драку, крутили ручку медогонки, наблюдая, как со скоростью вращаются в бочке металлические сетки со вставленными рамками, разбрызгивая центробежной силой мёд из раскупоренных сот на стенки медогонки.
Мёд откачан. Открыто отверстие внизу бочки, и мёд тягучей, золотистой струёй укладывается на марлю, которой Вера, как платочком, накрыла ведёрко. Процеженный мёд жена разливает в трёхлитровые банки. Мед струится сначала крупными пластами, потом всё мельчая. Складываясь, как холстинка, струя приковывает и завораживает взгляды домашних. Иногда под струю тянется детский давно липкий пальчик, и макнув медка, спешно прячется в рот. Все добродушно смеются, и даже строгая Вера не ругает озорника, хотя все знают, что процеженный в банки мёд – для продажи.
Жена в чистом праздничном переднике курсирует от дома к чистому, специально отдельно выстроенному для пчелиных дел сараю, где и происходит основное действо, таскает пропаренные стерильные банки, а обратно – банки с мёдом, и светится радостью. Она тоже отдохнула от надоедающего с годами мужа, рада ему, гостям, которые угодили приехать, когда есть и молодая картошка, и огурцы, и мёд (а огурцы с мёдом – слаще арбуза!) и не стыдно показать родне, что дом у них – полная чаща, и никак не хуже, чем у других. А ещё более Вера рада тем деньгам, которые они с Иваном выручат на рынке за эти золотистые банки. К низким окладам такая летняя продажа мёда – единственная возможность семейного дополнительного заработка, да ещё и такого ощутимого.
Эти нечастые семейные часы, целые дни единения, понимания, с годами потеряли свою душевность. Но и спустя годы, в редкие встречи друг с другом, дочери – такие разные! – обязательно вспоминали «сладость детства».
Когда Иван запил, медовая выручка пропивалась им полностью, и никому уже в семье не перепадало ни обновки, ни гостинца, ни вольного медка. Пчёлы возненавидели своего пьяного хозяина больше, чем могла бы возненавидеть обиженная жена. Запах алкоголя прямо-таки бесил их, и они гудящей тучкой налетали на появившегося во дворе хозяина. Иван постепенно забросил пчельник. И сердобольная Вера, надев рубаху с сеткой, и раскочегарив дымарь, сама занималась уже ставшей родной семейной «живностью». И пчёлы, которых уже больше не вывозили «на кочёвку», платили ей всё же каким-то взятком, собранным даже в условиях рабочего посёлка. Вера следила за роением и «огребала» рои в роевню с деревьев и кустов, вела примирительную политику с соседями с помощью литровых банок мёда, откачивала мёд и готовила подкормку для пчёл в зиму, укрывала ульи на зимовку, оставляя отдушины, чтобы пчёлы не задохнулись, проверяла герметичность ульев, чтобы ненароком не пробрались паразиты и грызуны. С первыми проталинами откидывала снег, очищала летки, и проверяла – живы ли, дышат ли, не погибли?
Первые весенние облёты были для Веры праздником, и она стояла без сетки и дымаря перед летками помолодевшая, с разглаженными улыбкой морщинками, наблюдая, как ослабевшие за зиму пчёлки, благодарно жужжа, слетаются на её лакомство – сахарный сироп, который она приготовила для подкормки, но ещё не донесла до сот. Вот точно также, подоив козу на лугу, шла она молодою к дому с трёхлитровой банкой, а детки – все пятеро – встречали её, прикладываясь к банке по очереди и посасывая парное молочко, так что после всех оставалось едва на донышке. Выросшие детки разлетелись, как молодые рои от маточника, и от прежнего гудящего роя осталась она да дед, гудящие и жалящие друг друга. Понимание и сочувствие улетучилось, как растаявший снег. Но живущая теперь уже прошлым, Вера с благодарностью вспоминала, что была и молодость, и любовь, и общие, объединяющие заботы. Родили и вырастили детей, были и радости, и трудности, и борьба за хлеб насущный, и этот выстроенный отцом дом для семьи, и сам хозяин с золотыми руками и золотым сердцем. Кабы не водка проклятая!