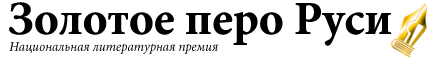Глава XLIX
В Москву
Да, так он мне и сказал, уже после прогулки, когда к подъезду подходили.
А гуляли мы хорошо известным маршрутом: от моста — мимо «Вещей» — к «Театральному» кафе — и далее. Вплоть до подземного перехода. Вниз, впрочем, не спускались, андеграунда Марков никогда не жаловал. И в «Прорубь», которая находилась в двух шагах, не поднимались. Поскольку для этого не пришло ещё время, так, по крайней мере, утверждал мой своевластный спутник. Он всякий раз задирал голову, придирчиво осматривал окна и говорил со значением:
— В среду.
И я всякий раз интересовался:
— Почему же в среду?
— В среду Миша Перц приезжает.
— Вот оно что! Ловко.
— Идём обратно к мосту, — распоряжался Марков.
И мы шли к мосту. А потом обратно. А когда нагулялись и обсудили всё, что только можно было обсудить, он и сказал:
— В Москву. Тебе теперь одна дорога, — и посторонился, давая мне проход.
Строго говоря, я и сам это знал. Вернее догадывался. Догадывался, что всё закончится непременно Москвой. И непременно теперь, то есть сегодня же. Было у меня такое предчувствие. Хотя до Москвы ещё доехать нужно. Но тётушке я уже сообщил, предупредил, чтоб встречала — помните мой второй вечерний звонок через «восьмёрку»? Ну вот.
Марков подтолкнул меня в спину:
— Давай-давай, проходи.
— Погоди, — говорю, — у нас московский когда отходит? Где-то в полвосьмого?
— В семь сорок, — ответил пунктуальный Марков, — времени ещё вагон. Да и собраться тебе не мешает. Зубную щётку-то возьми.
— Это понятно. Я думаю отвальную неплохо бы устроить, маленький прощальный сабантуйчик. Что скажешь?
— Хорошая мысль. Сделаем так: ты поднимайся к себе, готовь приборы, а я в магазин.
— Вот и отлично, — я полез в карман, — деньги-то…
— У меня есть! — возмутился Марков.
Да, точно, оставшиеся почти пять сотен мы уже поделили, сразу после обеда. Или нет, это был завтрак. Неважно. Я отправился наверх, а Марков двинулся в магазин.
Именно двинулся — как ледокол «Арктика», только вместо льдин он расталкивал животом пласты тёплого августовского воздуха. И по ходу движения зычно покрикивал на молоденьких мамаш, которые из рук вон плохо смотрели за своими чадами. И степенно раскланивался со старушками, величая каждую полным именем и отчеством. И строго отчитывал их поседевших сыновей, ждущих, когда им с неба свалится «маленькая». И зорко осматривал окрестности на предмет обнаружения непорядка, будь то открытый канализационный люк, брошенный мимо урны окурок или самовольно наклеенное объявление. Словом, это был Марков во всей своей красе, мой сосед, главный редактор «Проруби», образцовый поэт и большой гражданин. Описывать его внешность (по укоренившейся традиции) я не стану, скажу лишь, что подбородок он имел двойной, а в магазинах обслуживался вне очереди. Вследствие чего вскоре явился с вином.
Выставляя принесённые бутылки на стол, распределяя их на две группы, поэт говорил:
— Это нам с тобой сейчас, а это тебе в дорогу. А хочешь, можно сделать наоборот, это бери в дорогу, а это выпьем сейчас.
Я осторожно уточнил:
— А можно так: часть этого выпьем сейчас, а другую часть я возьму в дорогу? И отсюда тоже вот эту часть в дорогу, а эту сейчас?
— Нельзя, — отрубил Марков, — выбирай что-нибудь одно.
Пришлось выбирать одно. Одну кучку, ту, что справа. Уложил я её в портфель, оставшийся, кстати, от Иваныча, из псевдокрокодила, где уже лежали аккуратно прошнурованные кипы, кинул сверху тюбик зубной пасты, щётку, и собрался позвонить на вокзал насчёт билета. Однако был мгновенно осмеян. Оба марковских подбородка пришли в движение:
— Ты что, из Баку? Какие в наше время могут быть билеты! Это пережиток, атавизм, мезозойская эра! Уж мне-то верь, я-то знаю!
Сказанное почему-то настолько его развеселило, что он ещё с минуту не мог успокоиться, всё смеялся и смеялся — бархатно и громогласно. А когда начал стихать, я высказал своё недоумение:
— Как, — говорю, — так?
— А так, — ответил он уже спокойнее и взялся за штопор, — пережиток и всё. Билетов в кассах никогда нет, на любое направление — ноль. Они чуть ли не за год распродаются, да и то не через кассы, а с рук.
— И что же делать? Ехать-то надо!
Марков покровительственно ухмыльнулся:
— Не паникуй раньше времени, я тебя посажу. Солдат ребёнка не обидит. Поедем на вокзал, дашь проводнице сотни две и порядок. В купе, разумеется, дороже.
— Ну, — говорю, — мы не баре, нам в купе разъезжать не приходится. А как узнать, кому давать? Не всякая ведь возьмёт.
— Не всякая, — согласился покровитель. — Для того я с тобой и поеду. Укажу.
— Эх, золотой ты человек! Что б я без тебя делал. Значит, двести?
— До Москвы около того. Только лучше заранее на рубли поменяй, чтобы внимание не привлекать.
— Пожалуй, ты прав. Тогда давай сюда, сколько там у тебя есть, а сам держи мои.
Марков, который свою долю уже поменял, выгреб из карманов пригоршню разнокалиберных банкнот и принял взамен две серенькие сотни. Тщательно осмотрел, спрятал и спросил:
— А ты Москву-то знаешь? Доберёшься до места?
Тут я отчего-то вздохнул:
— Тётушка будет встречать, вчера вечером с ней разговаривал.
— Обрадовалась?
— Очень сильно, она давно меня зовёт.
— Мне Миша говорил, она там дачу собирается покупать, небольшую, но в хорошем месте.
Для меня это явилось новостью. Я даже поднятый бокал обратно поставил:
— Серьёзно? Она мне ничего не говорила. Хорошо, если так, тогда уживаться не придётся. Ты же знаешь, у меня проблемы с характером.
— Что да, то да, — глаза Маркова сверкнули, — характер у тебя ни к чёрту. А насчёт покупки не сомневайся, Миша зря говорить не будет. Ну что, за отъезд?
— За отъезд.
Мы выпили за отъезд. А потом сразу и за приезд. И ещё за что-то. Оживившись, заговорили о том и о сём. И вскоре, как в таких случаях водится, переключились на мой роман, который, несмотря на хандру, я довёл-таки до ума, и даже заново перепечатал. Ну, то есть это мне так казалось, что довёл. Да и Маркову тоже, хотя он и не любил в этом сознаваться. Короче говоря, мы стали оживлённо обсуждать перспективы «Райской жизни».
— Когда придёшь в издательство, — учил меня Марков, — веди себя прилично. Поднимись на третий этаж, найди там Рубена Самуиловича. Подари ему бутылку коньяка. А если его на месте не окажется, тогда спустись на второй и найди Гурия Кузьмича. Ему подари водку, две бутылки. Запомнил?
— Запомнил, Самуилович на третьем, водка на втором. И что им сказать? Что я от тебя?
— Не вздумай! Если ты им скажешь, что от меня, они тебя пошлют. А Гурий и побить может. Обо мне лучше помалкивай, вообще не упоминай. Даже если спросят — знать, мол, такого не знаю. А спросят обязательно. Но главное не это, не коньяк и не водка, — Марков вновь взялся за штопор. — Главное, заруби себе на носу: ты этот роман не писал. Ни единой страницы!
Батюшки, думаю, что он несёт? Напился уже, что ли?
— Ты что, — говорю, — уже напился? Как это не единой страницы? А что же я тогда делал?
— Я трезв как младенец! — торжественно заявил поэт. — Потому повторяю: заруби на носу.
— Но почему? С какой стати мне скрывать своё авторство?
— Потому что твой роман никуда не годится. Это во-первых. А во-вторых, всё равно тебе никто не поверит. Ты кто такой? — скажут. И что ты им на это ответишь? А-а, понял теперь. Так что хочешь, не хочешь, придётся скрыть.
— Да ведь это ерунда какая-то!
— Нет не ерунда. Всё правильно.
— Чушь.
— Не чушь, — Марков покачал головой, откинулся на мягкую спинку, задумчиво надул губы.
И почти сразу воскликнул, выпрямляясь и ударяя себя по ляжкам:
— Идея! Скажи, что ты его нашёл.
— Нашёл?
— Нашёл. Ну, случайно, мол, попали в руки чьи-то дневниковые записи, а ты их просто немного подработал и решил издать. Да-да, так и скажи: решил издать. Они это любят.
Чтоб тебе, думаю, медведь приснился! Золотой мой человек.
На этой сновиденческой мысли я решил закончить обсуждение, уж больно оно какое-то нелепое получалось. И вообще решил закругляться. Всё что имело возможность произойти, уже произошло, а всё что должно было сказаться — сказалось. Хватит кашу по тарелке размазывать. Да и вино подошло к концу.
— Ладно, — говорю, — не пудри мне мозги. Выпьем по последней — и айда. За удачу!
Я махнул бокал, махнул рукой. И Марков сделал то же самое, а затем, после непродолжительного молчания спросил, косясь на портфель у моих ног:
— Этот экземпляр единственный? Или есть ещё?
— Есть. У Натальи копия лежит. Правда, в старом варианте, не доведённая до ума.
— Всё равно забери, — проговорил он убеждённо, — доведённая, недоведённая, это без разницы. Надо забрать. Позвони, скажи, что сейчас заедешь.
Я решительно замотал головой:
— Нет, не стану звонить! Она на меня сердитая, не хочу лишний раз нервировать.
— Тогда я сам позвоню, — упорствовал Марков, — и сам поеду заберу.
— Делай, — говорю, — как хочешь.
Он пошёл к телефону, а я пошёл в спальню. Взял с тумбочки походного «Евгения Онегина», отнёс в портфель. И превратился, таким образом, в человека, полностью готового к отъезду. То есть в пассажира. Застрявшая кукушка, как бы приветствуя меня в этом новом качестве, и одновременно напутствуя, ожила и приподняла деревянную бровь. Хромой гимнаст указал, что до отхода поезда осталось менее двух часов. Марков подал из прихожей голос:
— В общем, так, я сейчас к Наталье на работу, потом к ней домой за рукописью, а ты давай сразу на вокзал. Там и встретимся.
— Погоди, — остановил я его, — ключи возьми.
Он на ходу взял ключи:
— За квартиру не переживай, она остаётся в надёжных руках.
— Да я и не переживаю. Брать-то в ней больше нечего. Ты только меч не пропей и пыль с книг иногда вытирай, хорошо?
— До встречи на вокзале! — прокричал он уже от лифта.
А я в последний раз огляделся, подошёл к «Юности», заправил в каретку чистый лист, переключил регистр, отстучал, не присаживаясь:
НАУКА УМЕЕТ МНОГО ГИТИК —
взял портфель, хлопнул дверью, и в одно мгновение очутился на вокзале. В одно мгновение ока.
Вокзал гудел. Народу, готового к отъезду, было много. Даже слишком. И вот что меня больше всего поразило: все отъезжающие пассажиры отъезжали, казалось, в одном-единственном направлении, именно в том, в каком и я. Вокруг только и разговоров, что про Москву.
Какая-то громадная тётка, тащившая тяжёлые авоськи, оборачивалась к полностью сносившемуся гражданину с плиссированным лицом и зло ему выговаривала:
— Что же ты, гад, людей в спину-то сверлишь. Не успеешь в Москву, что ли?
— Шевели копытами, корова, — недобро реагировал гражданин.
Едва поспевающая за ним леди, по виду хозяйка сети парикмахерских, визгливо кричала:
— Руку подавай, паразит! Погоди, я тебе в Москве устрою!
— Заткнись, кобыла! — огрызался плиссированный.
Громко огрызался, на весь вокзал. И руку — не подавал.
Были, впрочем, и другие, более миролюбивые. Так, мимо меня рысью пробежали три русские мужика, явно родные братья. Каждый из них катил перед собой шипованное колесо от внедорожника и весело кричал, отплёвываясь от лезшей в рот бороды:
— В Москву! В Москву!
Они мне понравились. Следом за ними шагал румяный полковник в расстёгнутом кителе.
— А и гарно місто Москва! — рокотал он радостно, обращаясь к четырём сопровождавшим его прапорщикам. — Швидше, хлопці, швидше, як що не успіємо.
Прапорщики кивали белыми, как мел, головами и ускоряли шаг. Я начал было соображать что-то насчёт подстрочного перевода, но вскоре это дело бросил, так как увидел идущего на меня приятного блондина с двумя дамами под ручку. Первая из дам была в брючном трикотиновом костюме, вторая — беззаботна и весела.
— В Москву, Женечки, в Москву, — интимно шептал блондин своим спутницам.
— Нет, мы в полном трансе! — восклицали спутницы в один голос.
И опять то же самое — не успел я что-нибудь на их счёт сообразить, как послышалось балалаечное треньканье и под вокзальными сводами разнёсся смеющийся бас. Бас поведал присутствующим о том, что в златоглавой Москве частенько раздаётся колокольный звон, что там, кроме всего прочего, имеется державная царь-пушка, и что аромат пирогов стоит такой, какого не учуешь ни в Киеве, ни в Минске, ни в Кишинёве. Обладатель дивного голоса, красавец-мужчина с ясными глазами, вышагивал с перекинутой через руку собольей шубой и милостиво поглядывал по сторонам. Допев, он рявкнул на блондина:
— Васька! Не беги ты, чёрт, без меня всё равно не уедут.
Даже и не пытаясь больше ничего соображать, я просто отошёл в сторонку и пропустил всю эту многоликую толпу мимо себя. И только когда последний отъезжающий (весь в гипсе, судя по походке — бывший моряк), протиснулся на перрон, я решился последовать общему примеру.
Московский поезд уже подали, он, как и положено, стоял на первом пути. И штурмовался почти с таким же остервенением, с каким полчища Батыя штурмовали когда-то злой город Козельск. Однако опытные работницы флажка и подстаканника, отбив первые наскоки, мало-помалу привели неприятеля в чувство, рассредоточили по всей длине платформы и принялись осуществлять посадку. При этом я с удивлением отметил, что вся разношёрстная гоп-компания была заблаговременно кем-то обилечена. У каждого был билет, даже у обеих Жень. А у меня ничего.
Но не стал я по этому поводу унывать и пошёл, помахивая портфелем, вдоль зелёных, как забор, вагонов, одним глазом следя за дверьми, из которых должен был появиться Марков, а другим примериваясь к проводницам. Мне было интересно выяснить, смогу ли я сам найти такую, которая возьмёт. То есть меня самого возьмёт, а лишнего с меня — нет. И контролёрам в случае чего не продаст. Тут целая психология.
Нумерация вагонов начиналась с головы состава, оттуда я и начал свои искания.
Итак, вагон № 1. Почтово-багажный. Не пойдёт.
Вагон № 2. Купейный. Тоже не пойдёт.
Вагон № 3. Плацкартный. То, что надо. Одно плохо — проводница молодая. Молодая, значит нервная. А если вдруг спокойная, то, как пить дать, жадная. Оба случая не мои, а жаль.
Вагон № 4. Не то чтобы очень пожилая, но есть маленько. Значит, всего пугается. Строгого начальства, требовательных пассажиров, продувных сквозняков, тринадцатого места, повышения цен, американской военщины, падающих астероидов, большого вселенского взрыва, а главное до пенсии чуть-чуть осталось, хотелось бы спокойно дотянуть, без ЧП. Снова не то.
Вагон № 5. По возрасту в самый раз. Но — полноватая. А я-то худой. Полные женщины нас, худых, презирают. Хотя живут, как правило, именно с худыми. То есть потому, наверное, и живут, что презренным существом легче помыкать. Кто знает. Короче, опять мимо.
Вагон № 6. Ой, на фоне этой я сам за толстяка сойду. За трёх толстяков. Болеет, что ли?
Вагон №7. Здесь вообще мужик. Да не один. Им везёт, а мне дальше.
Вагон №8. Стоп. Кажется, искомый случай. Спиной чую — она. На вид чуть меньше сорока. Волосы не очень длинные, значит, не дура. Но и не очень короткие. Значит, ещё не совсем, как говорится, того. Замужем была раза два, не меньше. Рост средний. Комплекция тоже. В общем, нормальная русская, извините, баба. На таких всё и держится.
Остановился я рядом с ней, стал наблюдать. Прислушался. Она командовала:
— Пассажир, стойте смирно. И разверните свою бумаженцию, у меня не десять рук. Билеты предъявлять в развёрнутом виде, всех касается! Какое у вас место? Двадцать четвёртое — проходим. У вас? Тридцать второе — проходим. У вас что? Пять чемоданов? Я рада за вас. А с местом что? Четырнадцатое-пятнадцатое? Заноси! Проходим, товарищи, проходим, не задерживаем.
Очень складно у неё со всеми получалось. Только на меня ноль внимания. Да оно и понятно, я как волосок на коленке: смотреть противно, а сбрить жалко. Где же Марков застрял?
— Ну, чего ты тут застрял? — раздался за спиной бархатный голос.
— Наконец-то! — обернувшись, воскликнул я облегчённо. — Где тебя носит? Вот полюбуйся, по-моему, нам сюда.
Марков моей командиршей любоваться не захотел, он вообще на неё не взглянул. Вместо этого отдал мне завёрнутую в газету рукопись и объявил:
— Я уже обо всём договорился, вот где меня носит.
— Да? Когда же ты успел?
— Успевает всюду тот, — назидательно проговорил поэт, — кто знает потайные ходы. Я договорился с начальником вокзальной смены. Минут через пятнадцать пойдёшь к последнему вагону, он там специально будет прогуливаться. Отдашь ему деньги.
— Сколько?
— Сколько и говорили.
— И поеду в последнем вагоне?
— В последнем. Эх, красиво работают! У них, оказывается, целый вагон прицеплен для пассажирской неучтёнки.
— Что ж, побуду двое суток неучтёнкой.
— Побудешь, побудешь, не рассыплешься. Ну, что, давай прощаться? На посадку пойдёшь один, а то ещё расплачешься. Да и мне светится лишний раз не с руки. Кстати, Наталья велела тебя поцеловать, но я этого делать не буду. Я тебе лучше скажу то, чего она просила не говорить.
— И что же?
— Она хочет свалиться к тебе в Москву как снег на голову. Под новый год.
— Спасибо, — говорю, — за предупреждение. Вот ведь снежинка! Похоже, методов борьбы с ней в природе не существует.
— Да и не нужно с ней бороться. Между прочим, я, скорее всего, сам к весне женюсь. Ты её не знаешь, но очень, очень порядочная женщина.
— Охотно верю. Раз я не знаю, значит точно порядочная. Не забудь на свадьбу пригласить. А жениться тебе просто необходимо, а то с ума сойдёшь в одно лицо. В двенадцати-то комнатах! У тебя теперь одной сухой уборки часов на двадцать.
— Где-то так. Нет, на восемнадцать.
— Может быть…
Повисла пауза. Нужно было расходиться в разные стороны. А не хотелось. Впрочем, не на век же. Весной на свадьбе будем гулять.
— Ну, всё, будь здоров! — сказал Марков. И, смахнув слезу, протянул мне руку.
— Будь здоров! — ответил я. И, не удержавшись, вскочил ему на шею.
Повисел, сколько хватило сил, потом скатился по животу вниз. Крепко пожал поэту руку, поднял портфель и пошёл в хвост состава. А он двинулся восвояси, в сдвоенный порт приписки.
Проходя мимо вагона-ресторана, я увидел разбитную деваху, курившую в окне, и на всякий случай её окликнул:
— Ку-ку! В последний вагон правильно иду?
Деваха молча постучала ноготком по лбу, выщелкнула окурок на привокзальную площадь и хлопнула рамой. Да, думаю, правильно иду. И ускорил шаг.
И вскоре заприметил начальника смены. Он прогуливался вдоль последнего вагона и был одет не по форме. Что и неудивительно, учитывая цель его гуляний. А вообще, не будь я заранее предупреждён Марковым, я бы и не подумал, что передо мной должностное лицо. Такой, знаете, не очень взрачный тип. Худой. А лицом, подлец, на меня похож. Только постарше.
Оглянулся я по сторонам — никого. Подошёл к нему вплотную и, безмерно стыдясь, маскируясь бортом пиджака, протянул приготовленные деньги. Не сказав при этом ни слова. Он весьма искусно изобразил удивление, и даже отпрянул, ударившись о вагон. Назад мне пути не было — я его припёр. И буквально впихнул купюры в руку. А потом спросил напрямик, уже без всякого стеснения:
— Можно садиться?
Начальник смены — (артист!) — растерянно пожал плечами:
— Садитесь, раз вы такой.
— А на какое, — говорю, — место?
Он неожиданно повеселел:
— А на любое!
Я буркнул слова благодарности и поспешил к входному тамбуру, но он меня окликнул:
— Ку-ку! Садитесь в крайнюю ячейку, туда, где две полки. Одна ваша.
— Левая или правая?
— Центральная!
Надо же, думаю, и тут юморист попался. Кругом одни юмористы, а работать некому. Да, но мне ли об этом говорить?
А впрочем, и говорить-то уже некогда, ехать надо. Не знаю, кто куда — а я в Москву! Лёня Халдей, не поминай меня лихом.
Глава L
Последний вагон
Но будет, будет и у меня свой век золотой. Пусть недолгий, всего-то несколько лет, или даже меньше, но он обязательно будет. Будет мне слегка за тридцать, и с лёгкостью необыкновенной стану я сочинять и записывать, выстреливая главы, как пульки в тире. Будет у меня и невеста, умница, красавица, работящая. Мало того, будет даже и любимая. У любимой грудь будет пятый номер, а ноги такие длинные, что я не знаю. У невесты грудь будет девичья, что тоже неплохо. Буду любить я любимую самозабвенно, до исступления, до слёз. Она же меня — нет, хотя добрая будет и сердечная, но сердцу-то не прикажешь. И невеста меня любить не будет. То есть не то чтобы не любить, а просто замуж ей захочется до самозабвения, до слёз, а в этом деле, если прижмёт, как-то уже и не до любви…
«Недо! — любви… недо! — любви…» — отстукивают колёса. Вагон покачивается, временами вздрагивает, в окне мелькают редкие огоньки. Мы несёмся сквозь ночь. И говорим, говорим…
— Ни-ко-гда!
— Не может быть.
— Клянусь! За всю сознательную жизнь палец о палец не ударил. Хотя… гм… знаете, последние года три я вроде как работал.
— И кем же?
— Понимаете, я был… только, чур, не смеяться, хорошо?
— Постараюсь.
— Понимаете, я был профессиональным жильцом. Точнее жителем.
— Ха! Извините, вырвалось. Но вы имеете в виду, что?..
— Именно то, что вы думаете. Для меня само житьё являлось работой. То есть, проснувшись утром, я уже оказывался как будто на службе. Шёл умываться, а на самом деле как бы входящие документы просматривал. Что там, мол, у меня за ночь накопилось? Или если случалось опохмеляться в компании, так я и не опохмелялся вовсе, я планёрку проводил, ясно? Когда с кем-нибудь ругался, такое тоже бывало, у меня это называлось приём граждан. Если лицо кому доводилось бить, или мне били, или вообще групповая потасовка, это что-то типа обмена мнениями. Когда в течение дня добавлял, тут уже надо подробно смотреть. Если граммов пятьдесят накачу, это составление проектной сметы. Если сто, это закладка фундамента. Сто пятьдесят — отделочные работы. Двести и больше — ввод в эксплуатацию. И так весь день, вплоть до сдачи под ключ, то есть до полной отключки. А там, как говорится, всем спасибо, конец рабочего дня. Два года и десять месяцев я так оттрубил. Жаль, получку совсем не получал. Да и платить-то, собственно, было некому, выходит, я сам себя и нанял. Представляете, каково это? Пахать считай круглосуточно — и бесплатно.
— Не представляю…
Мы несёмся сквозь ночь. В самом последнем вагоне. Здесь — благодать. А в крайней ячейке благодать двойная, поскольку всего две полки. Никто со стороны не встревает, разговор идёт с глазу на глаз. И мимо никто не снуёт. Болтает, правда, как в проруби, но зато вино есть. И тоже — две бутылки. На ночь нам хватит, а с утра можно будет…
— А с утра начиналась такая мотня, что вспоминать не хочется! Соседи — хоть из квартиры не выходи. За исключением одного, который через стенку, этот нормальный. А остальные шляются, бывало, по лестнице вверх-вниз и практически не здороваются. А только подталкивают друг друга в бок да многозначительно перемигиваются, мол, видали, нашего-то опять понесло! И всё-то у них не как у людей, не прямо, всё из-за угла, вкривь, вкось, всё вподслушку, вподглядку. И ведь смотрели-то, сволочи, с тревогой и любопытством, хотя и тревога ложная, и любопытство враньё. На улице то же самое. Не успеешь нос высунуть — старушки уже причитают, собаки шарахаются, гавкают, прохожие сторонятся и, пропустив вперёд, пускаются в погоню, и сверлят, сверлят спину взглядом волчьим. Убегу, бывало, от одного соглядатая, как тут как тут следующий, ещё более настырный, норовящий чуть ли не за пазуху заглянуть. Доходило до страшных вещей. Подкрался раз один такой сзади, я ему без разговоров по рукам. Он в крик. Тут патруль. Отделение. Протокол. Как выяснилось, он прикурить хотел. Ему мои извинения, а мне штраф и общественное порицание. Проклятая среда, во что она меня превратила! По её милости я сделался не олимпийской надеждой Альбервилля, а каким-то травоядным, каким-то титулярным жуком короедом, и подчас не мог толком понять — где я в данный момент нахожусь? Побегу, например, в булочную, как вдруг со всего маху налетаю на деепричастный оборот. Или начну подкреплять сказуемое косвенным дополнением, и оказываюсь на римском Форуме, держу там речь, как Нерон, и подкрепляю её площадной бранью. Доходило и до смешного. Купил как-то маленькой оборванке баночку повидла, из жалости, так эти добропорядочные патриции чуть в куски меня не разорвали — приняли за растлителя. Какой к чёрту из меня растлитель? Я после этой стычки неделю страдал поясницей, согнувшись ходил. А тростию, между прочим, так и не обзавёлся.
— Тростию?
— Тростию. Ну, как поэт натуральной школы. Или писатель…
Мы несёмся сквозь ночь. Вино пьём хорошее, дорогое, действует оно мягко. Так мягко, что жёсткий вагон уже не кажется жёстким. И твёрдые полки уже не полки, а диваны. Полосатые, со спинкой, и тоже какие-то сверхмягкие. Полумрак. Шторы кремовые с бахромой. Миниатюрный торшер, неяркое пятно света на столе. Приглушённая музыка льётся откуда-то сверху. Бельё — крахмал. На полу пушистый ковёр в три пальца, вентиляция воздуха такая, что кури, не хочу. Хрустальная пепельница, до блеска начищенные подстаканники. И разговоры, разговоры…
— Да, всё так. Но к моему роману поэзия не имеет никакого отношения. Скорей наоборот.
— Что наоборот?
— Что «что наоборот»?
— Как это что «что наоборот»? Вот вы сказали: поэзия не имеет никакого отношения, скорей наоборот. Вы сами-то понимаете, что говорите? Что — наоборот? В каком смысле?
— Э-э, да вы же и дошлый. В каком, говорите, смысле? Да в прямом. То есть в обратном. Следите внимательно. Если я, например, не имею прямого отношения к сфере услуг, скажем, к торговле писчебумажными принадлежностями, это ведь не значит, что упомянутая торговля не имеет косвенного отношения ко мне. То есть я как активный пользователь вынужден время от времени закупать у них карандаши, бумагу, скрепки, дыроколы и прочую продукцию. Точно также и поэзия, не имеющая, казалось бы, к моей истории абсолютно никакого отношения, вынуждает меня постоянно прибегать к её услугам, пользоваться всякими хитрыми штучками, типа метафор и литот, что означает только одно: во-первых, история моя имеет к поэзии самое непосредственное отношение, во-вторых, вы вот сами выпили, а мне не налили, и, в-третьих, по смыслу исходной фразы это и есть — наоборот.
— Что-то вы, кажется, загибать начали. Выпейте-ка вина, вот я вам налил. Хорошее, кстати, вино, где покупали?
— Благодарю. А вино не я покупал, поэт. Здесь у нас. То есть там у них, так теперь получается. Эх-хо-хо… Ваше здоровье.
— Спасибо.
— А, хорошо! Погодите, знаете, о чём сейчас я подумал? О том, что я вот выпил — и крякнул. И вы тоже, когда выпили — крякнули.
— Крякнул.
— А как это передать на словах, не в курсе? На буквах, в тексте?
— Понятия не имею. Знаю только, что все пишут так: Суглобов выпил три бутылки водки и сразу крякнул.
— Так прямо и пишут — Суглобов?
— Так и пишут. А сам звук, ну, то есть, как он крякал, почему-то не описывают.
— Жалко. Вот он, язык-то!
— Нормальный язык…
Мы несёмся сквозь ночь. Вино, как и положено, подходит к концу. Гораздо раньше намеченного срока. Возня в соседних ячейках также идёт на убыль. Последний вагон постепенно погружается в сон. Огни за окном почти не мелькают. Угасает и наш разговор. И как бы досадуя на своё угасание, даёт под конец особенно жаркие вспышки…
— Нельзя же так огульно мешать всех в одну кучу. Люди разные.
— Говорю вам — все. Поголовно!
— Не могу согласиться.
— Да и чёрт с вами, не соглашайтесь. Положение от этого не измениться. Каждый — повторяю, каждый считает себя центром Вселенной, да ещё каким! Планета Земля, думает он, вращается исключительно для меня одного, а стройная система мироздания всею своей сущностью только и призвана, чтобы сообщать мне как можно более удоб¬ные и приятные способы моего чудесного бытия. Досадно только, что окружающие этого не заме¬ча¬ют. Но меня не проведёшь. Видят, всё отлично видят, тут и слепой увидит, а просто они все дураки, а я нет. Они никак не могут смириться с тем, что весь миро¬вой уклад, как хорошо отлаженный двигатель, настроен и крутится только для моей личной пользы, для моей персональной выгоды, потому что я не¬повторимый и непревзой¬дённый, тогда как они всего лишь однооб¬разные винтики, шпунтики, гайки и контрагайки, или, проще говоря, го¬рюче-сма¬зоч¬ный материал. И все мои неудачи от них. Все неурядицы, невзгоды, нелады с совестью, вплоть до раз¬вода с женой и хронического насморка, плюс систематическая пьянка и патологическое безденежье, безволие, безутешность, бесхребетность, а равно и захре¬бет¬ность — все эти напасти есть результат чудовищных происков, недобросовестных подкопов под меня, а если говорить начистоту, есть ре¬зультат прямого заговора. И даже моя наивная, слегка застенчивая завист¬ливость есть не что иное, как защитная реакция на их гнусную, разнузданную, всепоглощающую зависть. Зависть само¬го чёрного пошиба, поскольку все вы вокруг хамло, а я — здравия желаю!
«Здрави! — яже… здрави! — яже…» — бряцают колёса.
— Простите, но думать так может только крайне недалёкий человек. Разве нет?
— Именно что да! Вы абсолютно правы. Тот, кто так думает — недалёк. Недалёк от остальных, думающих точно так же. Притом что человек вообще не склонен особо задумываться, кто или что приводит в движение тот самый двигатель, крутящийся, как выяснилось, для него одного. Хотя в глубинах сознания он смутно о чём-то таком догадывается, и даже обнаруживает способ¬ность (а иногда и желание) совершить в этом направлении какой-нибудь осторожненький поступок. Однако от совер¬шения в последний момент как-то так уклоняется. Что само по себе уже неплохо, уже хорошо, уже своего рода дея¬ние. Во всяком случае, это достаточно гибко и умно…
«Иу! — мно… иу! — мно…» — стонут на поворотах буксы. Поезд дрожит, раскачивается, скрежещет. Мы несёмся сквозь ночь. Огней за окном не видать. Вагон наш крепко спит. Спит и мой разговорчивый попутчик. Устал. Не знаю, что он за фрукт, но любопытный. Демисезонного типа. И лицом зачем-то на меня похож. Помоложе только. Вдобавок — тёзка.
Интересно, с кем он меня на перроне перепутал? Наверное, с тем железнодорожным дядей, которого увели под руки люди в штатском. Больше не с кем. Нет, как он мне деньги-то совал! А потом сам же долго смеялся. С юмором человек. Теперь все с юмором. Но поговорить мастак.
Он бы лучше так писал, как говорит. А то я тут просмотрел, пока он трепался, эту его рукопись, и все глаза себе чуть не сломал. Рукопись! Да это просто какие-то дневниковые записи и больше ничего. Эх, если бы они случайно попали ко мне в руки, уж я бы смог довести их до ума.
Что бы я исправил? Много чего. В первую очередь изменил бы самое начало, вместо «автобиографическая повесть» написал бы «невыдуманная история». Так будет правильнее. Потом изменил бы фамилию весёлого майора, клад-то до сих пор не вырыт. Назвал бы его как-нибудь посмешнее — Типун или Зипун. Или Тютюн. Да, точно — Тютюн. Ещё урезал бы квадратные метры жилплощади, а то никто не поверит, что раньше были такие квартиры. Оставил бы только спальню, библиотеку, гостиную, гостевую, столовую, буфетную, кухню, ну и гардеробную. Вещи же надо где-то держать. Потом друзей в Америку бы отправил. Обживать континент. Ну и, понятно, вычеркнул бы монолог Штиля, где он называет настоящего убийцу старика Карамазова. Не время ещё. Так что много, много чего можно исправить, было бы желание.
А оно есть. И неважно, что таких, как я, мой попутчик презрительно называет — «краеведы». Называет, а не знает, что встречаются на свете такие края, такие просторы, которые чтобы изведать, никакой жизни не хватит. Даже если эта жизнь райская.
Да, но желание такое, что руки сами чешутся. Он, помнится, говорил ещё об одном экземпляре, недоведённом. Доведённый, недоведённый, без разницы. Ага, вот. А портфельчик-то швах.
— Алло, Джонсон? Же-ня. Женька!
Спит без задних ног. И поезд очень кстати остановился. Что это, перст судьбы?
Состав вздрагивает, снимается с места и стремительно набирает ход. Через минуту последний вагон бесследно исчезает в предрассветных сумерках. На неизведанных просторах воцаряется тишина. Велики просторы, необъятны. Раскинулись они в вековой своей дремоте на полсвета и лежат, посапывая, под колючим хвойным одеялом. И кажут всему миру лишь стёртые пятки малахитовых гор да пенную бороду седого океана.
2012 г.