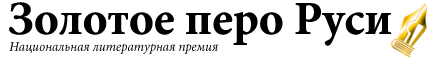— Было мне тогда без малого девятнадцать лет. Я верил в комсомол и верил в энергию Горбачёва, — так начал свой рассказ Фома Ильич, неторопливо, как бы в согласии с темпом своего повествования помешивая мельхиоровой ложечкой горячий сладкий чай, налитый в эмалированную кружку, на боку которой были изображены тюльпаны — крупные алые бутоны, неизвестно как крепящиеся к тончайшим нитевидным стебелькам.
Фома Ильич был довольно слабого здоровья мужчиной, и, хоть на момент повествования не исполнилось ему ещё и пятидесяти лет, мнил себя глубоким стариком. Многое пришлось пережить и повидать Фоме Ильичу в своей жизни, за многое он брался, много сменил профессий, но последние три года работал плотником в школе и был этим вполне удовлетворён. Жил он одиноко, и никто не знал, откуда он был родом, бывал ли женат, имел ли детей. Если бы спросили кого-нибудь, что за птица Фома Ильич, то такой человек припомнил бы обязательно, что Фома Ильич любил усердно и кропотливо трудиться, сердился, когда его отвлекали от работы, шумного общества чурался, в свободное же время сидел один и сосредоточенно думал о чём-то. Благодаря своей кротости, некоторым особым жестам и ветхой залатанной одежде Фома Ильич и в самом деле походил чем-то на старичка.
— Летом я отдыхал на подмосковной даче у своей тётки, — продолжил Фома Ильич, сделав маленький, «предварительный», как подумал он сам, глоточек чаю. — Уже тогда я неплохо играл и коротал тёплые вечера, составляя этюды.
Его вечерний гость, Николай Евграфович Н., сидевший за кухонным столом напротив Фомы Ильича, протянул руку к серебряному портсигару, им же выложенному на стол всего минуту назад совместно с такого же фасона серебряной зажигалкой, привычным движением тонких пальцев открыл крышку и извлёк папироску. Разминая папироску пальцами правой руки, Николай Евграфович свободной левой рукой изъял из внутреннего кармана пиджака янтарный мундштук. Затем, словно совершая магический ритуал из репертуара циркового факира или демонстрируя крайне сложный, но тщательно проработанный и потому кажущийся естественно-небрежным акробатический трюк, вставил папироску в мундштук, перекинул одну ногу через другую, зажал мундштук губами, щёлкнул зажигалкой, поднёс огонь к папироске, прикурил, закрыл щелчком зажигалку, раскурил папироску, затянулся, вынул мундштук изо рта, медленно выпустил тонкую струйку дыма в потолок и пристально посмотрел на Фому Ильича, изображая готовность слушать с любопытством.
Николай Евграфович Н. впервые в жизни видел Фому Ильича, хотя знал его уже много лет. Знакомство их вышло так: оба они оказались страстными любителями шахмат по переписке и, однажды, когда Николай Евграфович принял вызов, размещённый в одной давно уже несуществующей шахматной газете, завязалась эта странная связь. Мало ли с кем и с каким успехом играл по переписке Николай Евграфович, но тут вышла история совершенно особая. И дело тут даже не в том, что, получая письма с ответными ходами, Николай Евграфович нередко обнаруживал в конвертах сразу возбудившие его любопытство едкие приписки, состоявшие из коротких пословиц, — «всяк сверчок знай свой шесток» или «на чужой каравай рта не разевай», — или же из цитат басен Крылова. К своему удивлению, азартному возмущению и изумлению искушённого шахматиста Николай Евграфович замечал, как его собственный лёгкий и изящный стиль, полный тонких комбинационных идей и, казалось бы, прекрасного позиционного чутья, часто вдребезги разбивался, спотыкался обо что-то неказисто-непредсказуемое и парадоксальное, вязкое и тёмное, что Николай Евграфович никогда не осмелился бы назвать тонким словом «стиль», что-то, по мнению Николая Евграфовича, совершенно невозможное в таком вдумчивом и аналитически-глубоком занятии, как игра по переписке, и что-то такое, что заставляло считаться с собой и приковывало внимание все те годы, пока продолжалась их переписка. Нередко, в минуты тяжёлых раздумий над доской, Николай Евграфович с досадой ловил себя на мысли, что вновь возвращается к толстовскому образу столкновения французской шпаги и русской дубины. В такие моменты Николай Евграфович начинал болезненно посмеиваться, открывал шкафчик и из небольшого хрустального графина наливал себе рюмочку бальзама, закуривал папироску и, продолжая посмеиваться, усаживался в глубокое кресло. Игра для Николая Евграфовича превратилась из состязания и наслаждения в некое наблюдение за редким и странным явлением, чарующим своей диковинностью. Так, спустя несколько лет интенсивной переписки, Николай Евграфович начал замечать, что его собственная игра как будто бы утратила самостоятельность, и все ходы, выдумываемые им, казалось, были специально направлены на раскрытие тайных возможностей того явления, с которым он столкнулся.
Мимоходом нужно упомянуть, что Николай Евграфович работал научным сотрудником в институте прикладной физики и любил физику всей душой наравне с шахматами. Вернее будет сказать, что физика и шахматы в сознании Николая Евграфовича не разделялись и были единой, по его тайному самодовольному мнению, «эстетической дисциплиной». Именно поэтому, несмотря на хорошее воспитание и непременную внешнюю обходительность, в глубине души Николай Евграфович высокомерно отделял себя от той части человечества, которая не была причастна к таинству физической науки и шахмат. Можно с уверенностью сказать, что именно эти убеждения позволили Николаю Евграфовичу в конце концов сравнить его переписку с Фомой Ильичом с религиозным или же, как выразился бы мягче, но только для того, чтобы подчеркнуть научную основу всех своих убеждений, сам Николай Евграфович, «эстетическим» откровением. Николай Евграфович страстно возжелал личного свидания с Фомой Ильичом, и, когда на горизонте забрезжила возможность получить длительный отпуск, написал ему письмо, получил радушное согласие, приобрёл билет на поезд и вскоре отправился в путь.
Крепкий табачный дым, выпущенный Николаем Евграфовичем, заставил Фому Ильича закашляться и прервать своё повествование. Фома Ильич встал, подошёл к окну и, потянув засаленную верёвочку, приоткрыл фрамугу.
— Фома Ильич, я привёз коньяк, — сказал Николай Евграфович, воспользовавшись моментом, чтобы одновременно извиниться за неудобство, доставленное Фоме Ильичу табачным дымом, и сделать подарок как можно непринуждённее, потому как, оказавшись в бедной обстановке квартиры Фомы Ильича, Николай Евграфович подумал, что может смутить своего друга таким подарком.
— Коньяк? Коньяк — это дело хорошее, — сказал Фома Ильич, садясь обратно на своё место и придвигая Николаю Евграфовичу маленькую каменную пепельницу, захваченную по пути с одной из висевших на стене полок.
Николай Евграфович, зажав мундштук краем рта, протянул руку под стол и достал оттуда свой пузатый кожаный саквояж, поставил его на колени, щёлкнул замками, вытащил бутылку коньяку и протянул Фоме Ильичу. Фома Ильич поставил бутылку на стол, достал из нагрудного кармана рубахи коричневый кожаный чехол, в котором лежали его очки, надел очки и, снова взяв бутылку, стал внимательно разглядывать этикетку, отклонив голову немного назад.
— Армянский. Хороший коньяк. Много я его в молодые годы выкушал. Бывало, в день выпивал по две бутылки. Здоровье, слава богу, было, — Фома Ильич поставил бутылку обратно на стол, снова встал, взял с холодильника, стоявшего здесь же, две глубокие рюмки толстого стекла, поставил их на стол, откупорил бутылку и стал разливать коньяк. Наполнив рюмки до самых краёв, Фома Ильич взял одну из них и поднял, желая, видимо, сказать тост. Николай Евграфович, спохватившись, тоже встал, положил мундштук с тлеющей в нём папироской на край каменной пепельницы, аккуратно, чтобы не расплескать коньяк, взял рюмку и приготовился слушать.
— Николай Евграфыч, дорогой ты человек, — начал Фома Ильич. — Много лет мы состязались за умозрительным столом и вдруг подымаем чарки за столом обеденным. Это есть самый прекрасный венец любого состязания, любого противоборства умов! Спасибо, что приехал меня с собой знакомить в тот миг, когда я остался совсем один, что для нас (а мы понимаем, кто мы, что мы за люди), для нас не столь пагубно, а более полезно. Пью за тебя, за единственного человека, который (а я это чувствую, я вижу это совершенно ясно) единственный пытался меня понять и во многом понял!
— Фома Ильич! Любезнейший, — воскликнул растроганный Николай Евграфович. — Раз уж этот тост дебютный, позвольте мне сразу сделать и свой ход, но не для того чтобы парировать ваше изысканное начало, вовсе нет, а чтобы дополнить его, расширить и обогатить, так сказать,.. заложить свой скромный камень в фундамент великого строения!
Много лет прошло с тех пор, как началась наша с вами переписка. Много утекло воды, пал Советский Союз, утаскивая вслед за собой в небытие блестящие достижения советской шахматной школы. Многие прекрасные люди, блестящие умы: физики, шахматисты, вольнодумцы вынуждены были бежать на Запад в надежде обрести интеллектуальный покой вдали от вакханалии Ельцина и его разбойничьих банд. Но мы с вами выстояли, остались здесь отстаивать идеалы Чигорина, Алёхина, Ботвинника… Невзирая на появление скоростных электронных сетей, сквозь бесконечные пространства нашей необъятной родины летели письма — клочки бумаги, содержащие в себе сокровенные наши мысли, глубокий интеллектуальный труд, плоды ночных страданий, выраженные в нескольких буквах и цифрах. Огненные символы, алхимические формулы крепящие Русь!.. За вас Фома Ильич, за вашу непростую судьбу, за ваш драгоценный талант, содержащий в себе признаки грядущего великого возрождения!
Фома Ильич, думавший во время произнесения торжественных слов почему-то о царе Николае Втором и потому выпрямившийся и стоявший, как на параде, резким движением поднёс рюмку к губам и одним махом выпил коньяк, вытер губы рукавом рубахи и сел на своё место.
Николай Евграфович, не желавший, но всё же в порыве красноречия немного расплескавший свой коньяк и раскрасневшийся сам, лёгким движением поднёс рюмку к губам и быстро, но при этом как-то плавно высосал содержимое. После этого лицо его сильно сморщилось, тонкие прямые усы, которые он с гордостью носил и за которыми тщательно ухаживал, загнулись вниз, глаза исступлённо забегали по столу. Николай Евграфович схватил мундштук, жадно затянулся и опустился на свой табурет.
— Ты уж прости, батюшка, шоколады да лимоны я не жалую, а сыр весь третьего дня ещё поел, — сказал Фома Ильич, смущённый неожиданно-резкой реакцией Николая Евграфовича. — Питаюсь одной лишь кашицей да солёным грибком. До получки тяну…
— Ничего-ничего, Фома Ильич, — переводя дух, сказал Николай Евграфович. — Я после первой не закусил бы даже под страхом смертной казни.
— А всё же совсем без закуски никак нельзя, — Фома Ильич встал, подошёл к массивному холодильнику, занимавшему значительное пространство тесной кухни, потянул хромированную ручку, открыл дверцу и достал из нижнего отделения холщовый мешочек.
— Репка-матушка, — Фома Ильич развязал шнурок на мешочке и, пошарив внутри рукой, извлёк крупный плод репы. Подойдя к раковине, Фома Ильича открыл кран и под струёй теплой воды тщательно отмыл репу от налипшей и высохшей на ней земли, закрыл кран, достал с полки деревянную разделочную доску, положив доску на стол и, взяв источенный кухонный нож, начал резать репу крупными ломтями, предварительно посрезав кожуру.
— Фома Ильич, — увидев репу, воскликнул поражённый Николай Евграфович, хватая бутылку и уверенно разливая коньяк. — Кажется, я начинаю понимать, где коренится секрет вашей игры!
— Предлагаю тост, — Николай Евграфович поднял рюмку. — За свободное мышление не в теории, как у заморских мудрецов, а на практике, как у нашего великого народа, как у вас, Фома Ильич. За русскую смекалку!
Фома Ильич опрокинул рюмку в рот, степенно вытер рот рукавом, взял кусок репы покрупнее, откусил кусочек и стал медленно пожёвывать. Николай Евграфович быстро выдохнул, всосал коньяк, наморщился, взял большой и тонкий кусок репы, полностью вложил его в рот, быстро прожевал и проглотил.
— Век живи — век учись! — заключил Николай Евграфович, взял мундштук, легонько постукивая по краю каменной пепельницы, выколотил из него остаток погасшей папироски, вставил новую, прикурил. — А теперь Фома Ильич, я настаиваю на продолжении истории, от которой я вас так безобразно оторвал.
— На чём же я остановился? — Фома Ильич примостился поудобнее, было видно, что коньяк уже подействовал на него самым благоприятным образом, и теперь он настроен на обстоятельный рассказ, — Ах, да… Я отдыхал на даче. И, как полагается каждому молодому юноше, отдыхающему летом на даче, влюбился. Была то девчушка на три года меня младше, длинноволосая и смешливая, дочь большого начальника, участок которого напоминал больше дворянскую усадьбу. Беззаботный смех её смолкал только тогда, когда садилась она играть на фортепианах, и тогда становилась она мечтательна и печальна. А я слушал и представлял, как мы с ней поженимся, как я буду сочинять этюды, а она мне играть на фортепианах. Был среди нас также чернявый мальчуган Мишка-болгарин, ненавистный мне субъект, большой озорник, которого я считал глупцом и глубоко презирал за это. Случилось так, что моя возлюбленная сдружилась с этим Мишкой и стала с ним гулять. За это я проклял её, решил, что во всю свою жизнь не полюблю больше никого, а стану бродячим философом, буду скитаться по Руси и правду искать. Решив всё это, я, конечно, по Руси скитаться не пошёл, а начал подолгу гулять в лесу, который примыкал к нашему дачному посёлку, и размышлять о смысле жизни. Все мои размышления в ту пору сводились к мысли, что человеческий мир совершенно оторван от природы и сложен в своём устройстве не сам по себе, а обособленно для каждого воспринимающего — соразмерно удалению от обезьяньего гнезда в космос человеческой мысли. Поэтому, решил я, мир Мишки-болгарина и моей проклятой возлюбленной примитивен, а потому удобен для взаимного согласования, тогда как мой мир, мир сверхчеловека, сверхсложен и участь моя — гордое одиночество и вечный поиск истины.
Во время рассказа Фомы Ильича, Николай Евграфович, украдкой, будто вежливый зритель, желающий показать другим зрителям и актёрам, которые его вовсе и не видят, что вынужден сделать что-то, что может привлечь к себе внимание, но предпринимает при этом всё возможное, чтобы по возможности казаться более незаметным, взял бутылку, разлил коньяк и приставил рюмку Фоме Ильичу, чтобы тот во время рассказа мог понемногу отпивать. Сам Николай Евграфович сидел, покручивая меж пальцев мундштук, лишь изредка затягивался, периодически смачивал губы коньяком и покусывал кусочек репы.
— Жил тем летом в дачном посёлке один интереснейший человек, — продолжил Фома Ильич, отпив немного коньяку. — Таинственный инженер Акимов, так я остроумно называл его про себя. Он жил вместе со своей женой на окраине посёлка, в сам посёлок никогда не выходил, и встретить его можно было только прогуливающимся с корзинкой в лесу — любил собирать грибы. Местные мальчишки говорили, что ночью видели его гуляющим по берегу речки. Жена инженера Акимова была женщина молодая, красивая и очень радушная, так, по крайней мере, говорили те, кто видел её. Всегда была приветлива, но в поселке почти не появлялась, лишь изредка её можно было встретить по дороге в магазин — ходила за продуктами. Некоторые говорили, что она очень любит своего странного мужа-затворника и не ходит в посёлок, находясь постоянно подле него. Другие говорили, что он тиранит её, в посёлок не пускает и бьёт немилосердно, чему я, впрочем, не верил ни капли.
Однажды, в очередной раз гуляя по лесу и придаваясь размышлениям, я замечтался и зашёл слишком далеко, туда, где начинались болотные топи. В тот самый момент, когда, закончив изящную цепь умозаключений, я вновь воспарил над грязным миром Мишки-болгарина и моей бывшей возлюбленной, что-то треснуло — гнилая ветка под моей ногой надломилась, я не удержал равновесие и упал в болото. Упал я сильно и поэтому сразу вошёл в болото по пояс, растерялся, запаниковал, стал махать руками вокруг, но всё, за что я хватался, оказывалось скользким и гнилым, выскальзывало из рук или отрывалось — я всё глубже проваливался в трясину. И вот одна голова моя осталась не проглочена болотной жижей. Я понял, что умру, и что никто не спасёт меня. Мне стало так страшно, что я взмолился: «Господи, помоги, на тебя одна надежда. Всё исполню, только спаси».
Фома Ильич перевёл дыхание. Было видно, что он уже порядочно захмелел. Слабое здоровье давало о себе знать. Николай Евграфович наполнил уже успевшие опустеть рюмки.
— Как ты догадался, Николай Евграфыч, я спасся, — глядя в рюмку и придерживая её пальцами, продолжил Фома Ильич, — И спасителем моим, как ты тоже догадался, стал инженер Акимов. С тех пор каждый день стоит перед моими глазами сцена: я, совершенно обессиленный, сижу у дерева, весь мокрый, весь в грязи, и инженер Акимов, тоже весь в грязи, тоже обессиленный, сидит, прислонясь спиной к пню, тяжело дышит. Лицо у него было какое-то суровое, почти злое. Смотрит куда-то вниз, как бы в себя, и говорит вдруг, не мне, а так, будто мысль случайно выкатилась из незакрытого вовремя рта, будто перед самим собой извиняясь за моё спасение: «Жизнь всегда окружена смертью. Смерть — необходимое питание жизни. Жить — значит быть убийцей…»
Спустя день в посёлке прогремел страшный взрыв. Я не слышал — лежал в бреду после случая на болоте. Взорвался и весь выгорел дом инженера Акимова. Он погиб, его жена осталась жива и была отправлена в город — в больницу. Позже мне стали известны загадочные обстоятельства смерти инженера Акимова. Живя на даче, он сконструировал бомбу с часовым механизмом. На следующий день после происшествия на болоте, инженер Акимов привязал бомбу к голове, взвёл часовой механизм и лёг в постель со своей женой… Как-то получилось, что за несколько секунд до момента взрыва его жена встала и вышла из дома. Так она спаслась… Почему она вышла из дома в последний момент, что стало с ней потом — мне неизвестно. Я долго думал об этом и думаю об этом сейчас, не меньше, чем о поступке самого инженера Акимова…
— Я никогда никому не говорил об этом, — немного помолчав, почти прошептал Фома Ильич, быстро взглянув на Николая Евграфовича, — но мне кажется, что инженер Акимов — самый лучший, самый честный человек из всех, кого мне доводилось встречать…
— Вот и эндшпиль, — нарушая повисшую тишину, задумчиво сказал погрустневший Николай Евграфович, разливая по рюмкам остатки коньяку.
— Слава богу, уговорили родимую… Слава тебе, господи, — согласился Фома Ильич, мусоля в руке последний кусок репы.
Перед тем как докончить коньяк Николай Евграфович вышел в туалет. В туалете он почувствовал, как в его голову медленно начинает проникать знакомая боль. Николай Евграфович любил выпить, но его организм плохо переносил алкоголь.
Умывшись холодной водой, Николай Евграфович вернулся на кухню. Фома Ильич задремал, он мерно похрапывал, привалившись спиной к стене и подпирая голову рукой. Николай Евграфович подошёл к окну. За окном было темно, лишь вдалеке виднелись огни промышленного строения, да несколько окон тускло светилось в соседних домах. «Нужно выйти на воздух», — подумал Николай Евграфович, осторожно вышел из кухни, прошёл до входной двери, вышел в прихожую, прикрыл аккуратно дверь, так, чтобы не защёлкнуть на замок, прошёл по грязному коридору, спустился вниз по лестнице — лифт не работал — и вышел во двор.
На улице бесчинствовали хулиганы. Один из них, невысокого роста, сутулый, с всклокоченными волосами, по всей видимости, младше остальных, вытащил из мусорного контейнера ботинки, связал их меж собой шнурками и пытался забросить на линию электропередачи. Подбрасывая ботинки, он истошно орал, возбуждая гомерический хохот своих старших товарищей, которые одобрительно дразнили его и раззадоривали своими грубыми замечаниями.
Ночная прохлада заставила Николая Евграфовича поёжиться. Он хотел было закурить, но понял, что забыл прихватить портсигар и зажигалку. Николай Евграфович почувствовал вдруг тоску и одиночество, почувствовал, что пустота и серость улицы начинают с каждым мигом всё сильнее сдавливать его существо. Ему показалось на мгновение, что хулиганы надсмехаются не над своим товарищем, всё ещё подбрасывающим связанные ботинки высоко в воздух, а над ним.
— Старый козёл снова заставил сплясать под его дудку… — рассеянно подумал Николай Евграфович и застегнул пиджак. — Пойду, пожалуй, а то наиграются с ботинками — за меня ведь примутся, ироды, — Николай Евграфович вошёл обратно в подъезд и прикрыл за собой дверь.