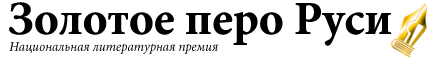L’art de culotter une pipe
Ma femme m’ayant donné, à l’occasion de ma fête, une pipe en écume de mer, je ne fis ni une ni deux: je pris mon chapeau, je mis mes bottes et je courus fumer mon cadeau à la terrasse du petit café dont je suis l’habitué fidèle. Attablé depuis dix minutes devant une consommation, je regardais grouiller la foule en tirant des bouffées, quand un vieillard vint à passer. A ma vue, il s’arrêta net; il devint blême, puis livide, et tout à coup se précipitant sur ma pipe, il me l’arracha de la bouche en criant: «Misérable fou!»
Mon premier mouvement fut de me lever et de reprendre à coup de poing mon bien. Par bonheur, mes yeux se fixèrent sur les cheveux de neige de mon agresseur, circonstance qui eut pour effet de me ramener à la modération. Je me souvins du
De senectute, du passage si plein d’émotion où l’avocat des Pisons rend hommage à la vieillesse, dit les égards qui lui sont dus, rappelle qu’au temps où Athènes florissait, le Sénat, dans les jeux publiques, se levait à l’entrée des plus vieux ainsi qu’à l’entrée des plus belles. Je me rassis donc et, simplement:
«En voilà un vieux trou – de – balle, — dis – je. – Voulez – vous bien me rendre ma pipe!»
Lui, cependant, avançait vers ma face sa face aux lèvres balbutiantes, aux sourcils alourdis de haine. Ses regards, entrés dans les miens, fouillaient jusqu’au fond de ma pensée, comme pour y traquer des remords. De cette voix profonde où gronde le trémolo des indignations qui se contiennent:
«Insensé! – reprit – il enfin. – Quoi! vous avez une pipe d’écume et vous la fumez en plein air!»
«Eh bien?» — dis – je.
Il répondit: «Eh bien, de deux choses l’une: ou vous êtes un pauvre ignorant, ou vous êtes le dernier des hommes!»
Сe langage plein de sévérité ne me laissa pas indifférent. Il me donna à supposer que j’avais commis, sans le savoir, quelque déplorable hérésie, en sorte que j’engageai le vieillard à me fournir des éclaircissements. Je le priai en même temps de me restituer ma pipe, ce qu’il se montra prêt à faire; mais, comme j’avançais les doigts pour m’en saisir, il la recula d’un geste brusque et avec de tels éclats de voix que les passants s’en émurent:
«Pas par là! Pas par le fourneau! A – t – on idée d’une chose pareille?.. Vouloir prendre par le fourneau une pipe en écume de mer!»
Etonné et vaguement inquiet, je l’allais prendre par le tuyau quand:
«Pas par le tuyau non plus! – hurla de nouveau le personnage. – Avez – vous perdu tout bon sens, que vous songiez, ayant une pipe en écume, à la prendre par le tuyau?»
Alors je me sentis plein de trouble; et tandis que l’inconnu ayant tapé ma pipe au zinc de mon guéridon pour en faire tomber le culot, la recouchait en la soie ponceau de son écrin qu’il refermait ensuite avec un soin pieux, je pris la parole en ces termes:
«Plus je vous regarde, plus je vous écoute, et moins je doute que je doive voir en vous un homme en dehors du commun. A mon sens, vous savez mille choses que je suis loin de soupçonner, mais surtout je vous crois passé maître en l’art singulièrement délicat de pratiquer la pipe en écume de mer. Je lis sur votre visage que j’ai deviné la vérité. Combien j’envie votre expérience!.. Avec quelle volupté j’en recueillerais les fruits!.. Mettez donc le comble à vos bienfaits; prenez un siège, bon vieillard, acceptez une consommation, et inondez d’un flot de clarté les ténèbres inexplorées où croupit ma triste ignorance».
C’était un homme d’une grande bonté. Il se rendit à ma prière. Or, en cette journée mémorable, je devais à plusieurs reprises sentir des étonnements s’épanouir au fond de moi, ainsi que de larges fleurs. Tout d’abord, ayant jeté les yeux sur la poche de mon veston où se carrait un paquet de scaferlati à la gueule béante et brune, il critiqua, non sans aigreur, cette obstination des fumeurs à ouvrir leurs paquets de tabac en faisant éclater la bande, timbrée au cachet de la régie, qui les lingotte d’un large et fragile ceinturon. Il exposa que la pipe d’écume demande à être bourrée contrairement au fil du tabac et dans le sens de la hachure, vu les lois de la pesanteur, l’attraction des corps par le centre de la terre et les tendances de la nicotine à se masser dans le fond de la pipe au lieu de se répartir avec une heureuse
équité sur l’ensemble de la paroi: d’où obligation absolue de pratiquer l’opération césarienne aux paquets de cinquante centimes, sous peine d’exposer la pipe qui en recevrait le contenu à se voir culottée comme par un cochon. Il loua ensuite en termes chaleureux l’excellence de l’écume de mer, exalta les vertus sans nombre de ce calcaire qu’il compara, pour la susceptibilité, à la fleur du magnolia dont se flétrit la blancheur de porcelaine au plus léger attouchement. Mais comme il insistait sur ce point, en revenant toujours et sans cesse aux porosités de l’écume
«autant de cellules grandes ouvertes à l’encrassement du suint humain», j’objectai mon impuissance à réformer la nature, les vains efforts où je me fusse consumé en vue de m’opposer à la transpiration de mes extrémités supérieures. Je conclus en demandant par quel bout il convenait que je m’emparasse de ma pipe le jour où je voudrais la fumer, car encore fallait – il qu’elle passât par mes doigts avant d’arriver à mes lèvres. Quelle devait être ma surprise!
«On ne prend une pipe d’écume ni par un bout ni par un autre, — répondit avec gravité mon savant interlocuteur, — si ce n’est la main gantée de fil. Je dis de fil; car le moutonneux du gant de Suède n’est rien moins qu’un antre à microbes, et le chevreau, par son glacis, est ennemi de l’écume de mer dont il enveloppe le poli naturel d’un revêtement artificiel, vaguement oléagineux et tout à fait indélébile. Apprenez de moi cette vérité».
Il discourait d’abondance, élevant de temps en temps vers le ciel l’index de la conviction, et lâchant par – ci par – là des apophtegmes dans le gout suivant:
«L’écume de mer est parcelle de Dieu!»
Ou: «L’homme qui galvaude une pipe en écume de mer est un père qui conduit lui – même, dans le sentier de la débauche, la vièrge qui lui doit le jour».
Ou: «Qui rougit de son origine est indigne d’en avoir une, — a dit un philosophe profond. — Qui, ayant une pipe d’écume n’a pas pour elle les égards qu’elle mérite, est indigne de la conserver, — oserai – je ajouter avec lui».
J’étais dans l’admiration. Il poursuivit:
«Si vous voulez mener à bien le culottage de votre pipe, il convient que vous la fumiez deux, trois ou quatre fois par jour (le détail est sans importance), mais toujours aux heures précises où vous l’aurez fumée la veille, en ayant soin d’aspirer les bouffées par intervalles réguliers: ceci dans une pièce bien close, carrelée en glaise de Hombourg, et d’une superficie non supérieure à huit mètres carrés et demi. Vous allez comprendre pourquoi. Le culottage n’est pas seulement dû à
l’absorption du jus de tabac par une terre plus ou moins dense. Non. Il dépend dans une large mesure du milieu atmosphérique au sein duquel il se développe, et qui ne doit être ni trop échauffé ni trop froid. Vous comprenez donc l’avantage qu’il y a à fumer dans une pièce étroite, с’est – à – dire dans un air ambiant que le foyer incandescent contenu au fourneau de la pipe attiédit par lentes graduations: champ supérieurement favorable à la marche de l’opération entreprise! Quant à la glaise de Hombourg, elle lui est indispensable, étant reconnue pour contenir une certaine quantité de chlorure de calcium, par consequent pour absorber l’humidité de l’atmosphère, laquelle n’est pas moins funeste aux pipes en écume de mer qu’aux personnes faibles de poitrine. C’est vous dire ce qui vous attend, si, occupant un logement carrelé de glaise commune, vous ne faites procéder dès ce soir aux réparations qui s’imposent: votre pipe est fichue d’avance».
Là – dessus, il me demanda à quel étage j’habitais, et sur lequel des quatre points cardinaux ouvraient les croisées de la chambre où j’avais coutume de fumer. J’entrai dans des explications, mais à mesure que je parlais, disant que j’étais sur la cour, que j’occupais rue Neuve – Coquenard un petit logement au cinquième, que mes croisées donnaient sur le midi et c oe t e r a et c oe t e r a, lui s’effarait, prenait des mines désolées, poussait de petites exclamations plaintives: «Ah!.. Et!.. Oh!.. Mais c’est de la démence!.. Mais ça passe la compréhension!.. Mais ce serait à crever de rire si ce n’était à pleurer de chagrin!.. Au midi? Au midi! Vous avez une pipe d’écume et vous croyez que vous la culotterez dans un logement exposé au midi?»
Il pouffa, apitoyé.
«Allons, c’est une dérision!.. Mon cher Monsieur, il faut déménager tout de suite ou faire votre deuil de votre pipe».
«Mais…»
«Сroyez – moi; rentrez chez vous, donnez congé à votre concierge et allez demeurer à l’hôtel, chez un ami, dans une mansarde, n’importe où, pourvu seulement que vous preniez jour sur le nord!»
«Pourquoi ça?» — demandai – je.
«Pourquoi? Pour échapper à l’action du soleil, parbleu! qui est préjudiciable, au – delà de toute expression, aux pipes en écume de mer!»
«Comment le soleil?..»
«Naturellement!.. Le soleil, vous ne l’ignorez pas, a pour effet de hâler les objets. Or, qu’est le hâle, sinon une façon de culottage, et que prétendez – vous espérer, je vous le demande, d’une pipe à la fois culottée et à l’endroit et à l’envers, donc partagée entre deux forces égales, faites sinon pour s’anéantir, du moins pour se neutraliser en une teinte douteusement malpropre et saupoudrée de taches de rousseur comme le visage d’une vachère».
«Fort bien, — dis – je. – Puisque c’est comme ça, je vais prendre un parti énergique: je ne fumerai ma pipe que la nuit».
A ces mots: «Vous aurez raison, — fit le professeur de culottage. – Toutefois vous devrez prendre garde à ne pas la fumer plus de sept fois par mois».
«A cause?»
Il répondit: «A cause de la lune, dont la lumière n’est sans danger pour les pipes en écume de mer que pendant le premier quartier».
Puis, ayant deviné ma stupeur au muet baillement de ma bouche, il m’initia à certaines particularités de la planète en question. Il me dépeignit l’influence de cet astre, réputé mort, sur les êtres et sur les choses; son action sur les marées, sur les femmes et sur le collage du vin. Je sus ensuite que la lumière de la lune agit sur certains calcaires, au point de les ronger comme le vitriol ronge les pièces de cinquante centimes à preuves la cathédrale de Meaux dont la façade s’effrite chaque jour et tombe peu à peu en poussière. Cet exemple me bouleversa en m’ouvrant de fâcheux horizons sur le degré de résistance des pipes en écume de mer comparé à celui des cathédrales gotiques. J’appris enfin qu’il est urgent de ne point se servir d’une pipe en écume: 1) quand il fait beau, — à cause de la sécheresse; 2) quand il fait mauvais, — à cause de l’humidité. Ces curieuses révélations emplissaient mon âme de surprise, mais de consternation aussi, car je sentais en moi, lentement, s’infiltrer la terreur de ne jamais me trouver dans les conditions satisfaisantes.
Georges Courteline
Когда жена, по случаю моего праздника, подарила мне пенковую трубку, я проигнорировал и жену, и праздник: взял шляпу, надел сапоги и побежал выкуривать свой подарок на террасу кафешки, верным завсегдатаем которой я являюсь. Сидя за столом перед заказанным напитком и втягивая в себя табачный дым, я в течение десяти минут разглядывал копошащуюся толпу, от которой вдруг отделился некий старичок. При виде меня он остановился как вкопанный, сначала побледнел как больной, потом – как мертвец и, внезапно бросившись на мою трубку, вырвал её изо рта с криком: «Презренный сумасшедший!»
Моим первым порывом было вскочить и вернуть своё достояние с помощью кулаков. К счастью, мой взгляд сосредоточился на белоснежных волосах агрессора – обстоятельство, которое заставило меня проявить сдержанность. Я вспомнил о «De senectute», о том его отрывке, переполненном эмоциями, в котором адвокат Пизонов отдаёт должное старости, говорит о почтительном к ней отношении, напоминает, что в ту эпоху, когда Афины процветали, Сенат, во время публичных игрищ, вставал при появлении стариков и прекрасных женщин. Поэтому, обуздав порыв, я спокойно уселся со словами:
«Старый вы паршивец! Сейчас же верните мне трубку!»
Между тем старик приближался к моему лицу с дрожащими губами и с бровями, отягощёнными ненавистью. Его взгляд, пронизав меня насквозь, копался в моей голове, как будто хотел в ней откопать угрызения совести. Наконец, он произнёс глубоким голосом, в котором клокотало сдерживаемое возмущение:
«Безумец! Как! У вас пенковая трубка, и вы её курите на открытом воздухе!»
«Ну и что же?» — спросил я.
«А то же, — ответил он, — одно из двух: или вы – ничтожный невежда, или последний из людей!»
Его речь, преисполненная строгости, не оставила меня равнодушным. Она навела на размышления о том, что я совершил, сам того не желая, преступное святотатство, таким образом вынудив старика давать мне разъяснения. В то же время я попросил его вернуть мою трубку, и, казалось, он был готов это сделать; но когда я протянул руку, чтобы её ухватить, он отодвинул её резким движением и с такими раскатами голоса, что они взволновали прохожих:
«Не так! Не за чашку! Мыслимо ли такое? Брать за чашку пенковую трубку!»
Удивлённый и слегка взволнованный, я собрался было ухватить её за мундштук, но был опять остановлен воплями странного персонажа:
«Только не за мундштук! Вероятно, вы лишились разума, если, владея пенковой трубкой, берёте её за мундштук?»
И вот тогда я по – настоящему разволновался; и в то время как незнакомец, постучав трубкой о цинк моего столика, чтобы вытрясти из неё нагар, укладывал её в пунцовую шёлковую шкатулку, которую затем захлопнул с большим тщанием, я обратился к нему со следующей речью:
«Чем больше я вас наблюдаю, чем больше я вас слушаю, тем меньше я сомневаюсь в том, что должен видеть в вас человека незаурядного. Я чувствую, что вы знаете тысячу вещей, о которых я даже не подозреваю; но особенно я вас ценю как большого мастера в очень деликатном искусстве обращения с пенковой трубкой. По вашему лицу я читаю, что докопался до истины. Как я завидую вашему опыту! С каким наслаждением я бы сорвал его плоды! Так доведите же свои благодеяния до совершенства: возьмите стул, благородный старец, закажите напиток и затопите потоком света неизведанные сумерки, в которых погрязло моё жалкое невежество!»
Это был человек высокого благородства. Он откликнулся на мою просьбу. Итак, в этот достопамятный день я многократно ощутил, как внутри меня распускаются большие цветы удивления.
Прежде всего, бросив взгляд на карман моего пиджака, в котором вырисовывалась пачка скаферлати с разинутой коричневой глоткой, он, не без горечи, раскритиковал эту необоримую привычку курильщиков вскрывать табачные пачки, разрывая бандероль со штемпелем управления табачных фабрик, которая опоясывает пачки широкой и хрупкой полоской.
Он высказался в том духе, что пенковую трубку нужно набивать исходя не из табачного волокна, а из направления штриховки, принимая во внимание законы тяготения, притяжение тел центром земли и тенденции сосредоточения никотина в глубине трубки вместо того, чтобы равномерно распределяться по стенкам; откуда проистекает абсолютная необходимость по отношению к пятидесятисантимовым пачкам прибегать к кесареву сечению под страхом обречь трубку с подобным содержимым на свинское обкуривание. Затем в высокопарном стиле он восхвалил превосходные качества морской пенки, превознёс неисчислимые достоинства этого
известняка и сравнил его, за чувствительность, с цветком магнолии, фарфоровая белизна которого блекнет при малейшем прикосновении. Но так как он настаивал на этом пункте, без конца возвращаясь к пористости пенки:
«Столько ячеек, подверженных загрязнению человеческим жиропотом», я сослался на свою немощь перед явлениями природы, на мученические усилия, которые я приложил, тщетно пытаясь противостоять испарению своих конечностей. В довершение я спросил, за какой конец я должен буду ухватить трубку в тот день, когда я захочу её выкурить, ибо прежде чем она коснётся моих губ, она пройдёт через мои руки.
Ответ поверг меня в крайнее изумление.
«Если руки не защищены нитяными перчатками, даже не помышляйте ухватить пенковую трубку за какой – нибудь конец, — с важностью произнёс мой учёный собеседник. – Я настаиваю на нитяных, замшевые перчатки – ничто иное, как рассадник микробов, а перчатки из шевро, из – за лессировки, представляют реальную угрозу морской пенке, так как они окутывают её натуральный глянец искусственной поверхностью, маслянистость которой не поддаётся устранению. Узнайте от меня эту правду».
Он говорил легко и многословно, время от времени подкрепляя свою убеждённость поднятым к небу указательным пальцем и разбрасывая направо и налево апофтегмы такого рода: «Морская пенка есть частица Бога». Или: «Человек, который губит пенковую трубку, подобен отцу, который собственноручно привёл на стезю разврата девственницу, обязанную ему появлением на свет». Или: «Кто стесняется своего происхождения, тот не достоин никакого происхождения, — сказал один глубокомысленный философ. – Кто, обладая пенковой трубкой, не относится к ней с должным почтением, не достоин ею обладать, — произнесу я вслед за философом».
Я находился в восхищении от услышанного.
Он продолжил:
«Если вы хотите извлечь пользу из обкуривания трубки, это следует делать два, три или четыре раза в день (не имеет большого значения), но всегда ровно в тот час, в который вы её курили накануне, заботясь о том, чтобы затягиваться через равные промежутки времени; только в запертой комнате, облицованной гамбургской глиняной плиткой, площадь которой не превышает восьми с половиной квадратных метров. Сейчас вы поймёте, почему это необходимо. Обкуривание зависит не только от всасывания табачного сока относительно плотной землёй. Нет. Оно зависит, в большой степени, от атмосферной среды, внутри которой оно развивается, и которая должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной. Итак, вы осознаёте все преимущества обкуривания трубки в тесной комнате, то есть в окружающем воздухе, который раскалённый очаг, находящийся в чашке трубки, разогревает неспешно – от градуса к градусу: фон, в высшей степени благоприятный для хода предпринятой операции. Что касается гамбургской глины, то она совершенно необходима, так как содержит некоторое количество хлористого кальция и поэтому способна поглощать из атмосферы влажность, которая не менее гибельна для пенковых трубок, чем для людей с уязвимой грудной клеткой. Объясняю, что вас ожидает, если, находясь в помещении, облицованном обычной плиткой, вы, с наступлением вечера, не произведёте необходимый ремонт, — тогда ваша пенковая трубка обречена заранее».
После этого он спросил, на каком этаже я живу и на какую из четырёх сторон света открываются окна комнаты, в которой я обычно курю свою трубку. Я пустился в объяснения, но чем больше я говорил, объясняя, что живу в убогом месте – в маленьком помещении на улице Нёв – Кокнар на шестом этаже, что мои окна выходят на юг и так далее, и так далее, тем больше он пугался, корчил унылые мины и испускал жалобные стоны: «Ах!.. Ой!.. Ох!..
Это безумие! Это выше моего понимания! Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно! На юг? На юг? Вы обладаете пенковой трубкой и полагаете, что сможете её обкуривать в помещении, обращённом к югу?»
Он сочувственно фыркнул.
«Но это же настоящая насмешка! Дорогой мой, вам необходимо немедленно менять жильё или оплакивать свою трубку».
«Но…»
«Поверьте мне, возвращайтесь домой, увольняйте консьержку и перебирайтесь в гостиницу, или к другу, или на чердак – куда угодно, лишь бы вы наутро проснулись на севере!»
«Зачем?» — поинтересовался я.
«Зачем? Чтобы избежать воздействия солнца, чёрт побери! которое, сверх всякой меры, вредно для пенковых трубок!»
«То есть как это солнце?»
«Естественно! Солнце, и вы не можете этого не знать, способно покрывать загаром разные предметы. А что такое загар, если не способ обкуривания, и чего вы ждёте, я вас спрашиваю, от трубки, которая одновременно обкуривается с обеих сторон, следовательно, разрывается между двумя равными силами, способными если не доконать трубку, то, как минимум, придать ей неопределённо грязный оттенок или же, обсыпав веснушками, сделать похожей на лицо пастушки».
«Очень хорошо, — сказал я. – Раз дело обстоит таким образом, я принимаю твёрдое решение: буду курить трубку только ночью».
Вот что я услышал в ответ.
«Вы правы, — одобрил профессор обкуривания. – Кроме того, вам придётся воздерживаться от курения более семи раз в месяц».
«А по какой причине?»
И вот что он ответил:
«По причине луны, свет которой безопасен для пенковых трубок только во время первой четверти».
Потом, догадавшись о моём изумлении по безмолвно приоткрытому рту, он посвятил меня в некоторые особенности этой планеты. Он описал влияние этого светила, известного как мёртвая планета, на живые существа и неодушевлённые предметы; его воздействие на приливы, на женщин и на осветление вин. Затем я узнал, что свет луны воздействует на некоторые известняки настолько, что разъедает их, подобно серной кислоте, разъедающей пятидесятисантимовую монету, и в доказательство привёл собор в городе Мо, фасад которого ежедневно осыпается и постепенно превращается в пыль. Этот пример меня буквально потряс, так как открыл жалкие перспективы сопротивляемости пенковых трубок в сравнении с готическими соборами. Я, наконец, узнал то, что нужно срочно принять к сведению: 1) ни в коем случае не пользоваться трубкой в хорошую погоду – из – за сухости, 2) ни в коем случае не пользоваться трубкой в плохую погоду – из – за влажности.
Эти диковинные открытия наполняли мою душу изумлением, а также глубоким огорчением, ибо я ощущал, как постепенно меня переполняет ужас при мысли, что никогда в жизни мне не удастся попасть в благоприятные условия.
Жорж Куртелин