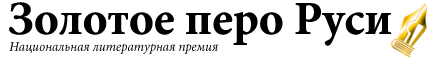Богослов из Арианза.
«В то время как у любого отца Церкви
можно найти какую-нибудь ересь,
у Григория Богослова нет ни одной»
Св. Фома Аквинский
I
Жаркий июль 381 года. Отворяются огромные, тяжелые врата Церкви Святой Нины. Солнце клонится к закату, косые его лучи падают на лицо старого архиепископа, на лице виднеется усталость, а в глазах – слезы; в древних сводах еще стоят громоподобным гулом последние, но смелые слова: «Вы, которых собрал здесь Бог для совещания о делах богоугодных, вопрос обо мне считайте второстепенным. Чем бы ни кончилось мое дело – хотя и осуждают меня напрасно – оно ни в коей мере ни заслуживает внимания такого Собора. Устремите свои мысли только к тому, что важнее: соединитесь, скрепите, наконец, взаимные узы Любви! Долго ли будут еретики и прочие безумствующие смеяться над нами, как над неукротимыми, которые научились только одному – дышать ссорами? Подайте же с усердием друг другу руку общения. А я,.. я буду пророком Ионой. И хоть неповинен в буре, жертвую себя ради спасения корабля; возьмите и бросьте меня по жребию. Какой-нибудь гостеприимный кит в морских глубинах примет меня – даст мне убежище. А вы с этой минуты положите начало своему единомыслию, потом же простирайтесь и к прочему. Пусть место это назовется местом пространства. Это и для меня обратиться в славу. А ежели на мне остановитесь – это будет для меня только бесчестием. Даю вам, братие, закон стоять за законы. Держитесь только такого образа мыслей, и ничто не будет для вас трудно. Я не радовался, когда восходил на престол, и теперь схожу с него добровольно. К тому же убеждает меня и телесное состояние. Один за мной долг – смерть. Все отдано только Богу. Но единственная моя забота только о Тебе, моя Троица! О, если бы иметь Тебе защитником какой-нибудь благообученный язык! по крайней мере, исполненный свободы и рвения! Прощайте! и воспоминайте о трудах моих…»
Вот и все. Все кончено. «Последний подвиг жизни близок, худого плаванья окончен путь…» Что остается? Арианство исчезло, как страшный сон. И кто же его победил: Император? Папа? Патриарх? Старик! изнеможденный постами и молитвою Подвижник, Тот, кто два года назад прибыл в Константинополь, Тот, кто проливал уединенные слезы в своей Церкви Анастасии, Тот, на кого были покушения, Тот, кто не искал славы, Тот, кто не претендовал на Константинопольский престол, с которого теперь так легко сошел; поддержал Павлина, и теперь епископ Асхолий (Фессалоникийский) и епископ Тимофей (Александрийский) – обиженные за Павлина, ибо на Антиохийскую кафедру был избран пресвитер Флавиан – осудили его в нарушении 14 правила Св. Апостолов и 15 правила Первого Вселенского Собора за незаконное восшествие на кафедру (на которую он так не хотел) будучи рукоположенным во епископа Сасимского, другом, архиепископом Василием. «О, Василий! Как же тебя не хватает! О, Кесария Каппадокийская!» Год назад, 27 ноября, возводили на престол, провозглашая: «Аксиос!», а теперь? Что теперь? Все кончено. «Худого плаванья окончен путь…»
Григорий шел по улочкам Великого города, пригнувшись к земле, согбенно; паства еще не знает о его оставлении кафедры. И куда дальше? В Назианз? «Благословите, Владыка!» — сказал прохожий. «Бог благословит!» — последовал ответ. Девять лет назад умер отец, два года назад – Василий. Самые дорогие люди. Ни кого не осталось. Даже Церкви, в лице ее предстоятелей, стал не нужен. Разве что, одному Богу… Он спокойно шел в свою, пусть маленькую, но такую родную, такую любимую Церковь. Вот знакомые своды. Вот камни, залитые слезами.
Солгал я пред Тобою –
Истиною, Слово,
Когда я посвящал Тебе
Настоящий день во мгле…
Не совершенно светлым застигла меня ночь,
Не каким обещал, не каким надеялся;
Но преткнулись ноги мои – не превозмочь –
Наступил ибо мрак, ненавистник спасения.
Ты, Христе, воссияй во тьме!
Свет Свой яви несказанный,
И снова явись мне
Мой Бог, долгожданный!
«Слава Тебе, Боже мой, слава за все! Ты умудрил меня. Верю: на все воля Твоя!» — молился Григорий. Перед его глазами возникал образ Того, кого он так пламенно воспевал, так горячо защищал, так преданно возлюбил. Вот Он, сидящий на херувимах, воспеваемый ангелами и святыми; в белых ризах, что белее снега, ярче солнца, прекраснее прекрасного – вот Он, Всесилный Бог; вот Он, гонимый и проливший Свою невинную Кровь; вот Он, взявший на себя грехи мира; вот Он, согнувший и надломивший Божественное пред человеческим; вот Он – Истинная, Абсолютная Любовь…
— Василий!
— Друг мой, ты ли это?
— Василий!
— Григорий…
Старинные друзья, еще с Афинского Университета, обнялись. Стоящие рядом пресвитеры и диаконы удивленно переглянулись. Не знающих о их Дружбе удивила «дерзость» Григория, но ответ Василия не то что удивил их больше, он ошарашил.
— Благослови… — как бы припоминая свое положение, молвил Григорий.
— Бог благословит! Ты, наверное, устал. Такая дорога! Проходи…
Он пропустил Григория вперед за темный льняной занавес, отделявший эту парадную комнату от проходов, ведущих в покои Владыки.
— Чтобы Архиепископ так общался с пресвитером! – возмущался один из бывших там священников; человек средних лет, с не посидевшей черной бородой, которого старость еще не пригнула к земле.
— Панайотис, ладно тебе, – смеялся седой священник.
— Его Высокопреосвященство сам решает с кем как общаться – возразил Панайотису старый протоиерей, чья белая борода лежала на груди, раздваиваясь к концу.
— Странно это… — добавил один из бывших там диаконов.
Росписи каменных сводов поражали своим великолепием: насыщенностью красок, реалистичностью изображений, сложностью орнаментов. В темных переходах, тускло освещая, коптили лампады. Все помещение было в полумраке.
— Итак, десять лет. Друг мой, ты же понимаешь всю сложившуюся ситуацию. Нужно искоренить эту ересь в Каппадокии… Григорий! Мне больше некому доверять. Я писал тебе. Нельзя больше ждать, ариане одолевают… То ты медлил, то болезнь твоей матушки, то еще что-нибудь. Но коль ты здесь. Может, больше не свидимся: ты согласен?
— Василий! Ты же знаешь, я не смогу. Мне проще безмолвствовать, ты знаешь, я не принимаю власти…
— Если не ты, то кто? Кто будет достойнее? Господь ниспосылает тебе испытание, ты ли не хочешь его принять?
— Хорошо. Пусть исполнится Его Воля!
…
— Поставлятся пресвитер Григорий во епископа Сасимского, во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аксиос!
II
— Григорий покинул Кафедру!
— Слышали новость: Владыку осудили на Соборе!
— Говорят, Феодосий хотел вмешаться, но ОН добровольно покинул Престол!
— За что осудили? После всех трудов?!
— Слушок ходит, что Григорий отплывает в Назианз!
— Как же без него теперь?
— Да все знают, что он не приемлет власть.
— А как он сам? Его кто-нибудь сегодня видел?
— Как же мы теперь без него?
Новость вчерашнего дня к утру облетела весь город. Все переживали. Лишь небольшое число врагов Григория тихо злорадствовало в стороне, боясь недовольства остальных. Вообще, каков бы ни был человек, насколько бы он ни был хорошим, у него всегда будут не то что враги, а недоброжелатели. Хотя, как правило, чем человек лучше, тем больше у него завистников; ибо и дьявол завидовал Христу и люди, лишь не многие были с Ним.
Везде: на рынках, площадях, улицах, даже в порту, обсуждалась волновавшая всех, новость. Город как будто забыл обо всем. Ни кого уже не интересовали последующие решения Собора – всех настолько взволновала вчерашняя новость.
В доме, где жил Григорий, все были потрясены не меньше. На одном Соборе возвести на Кафедру, а затем осудить и, таким образом, вынудить ее покинуть. Все, а это были родственники, очень близкие к Владыке люди, друзья, ждали, когда архиепископ закончит молитву и выйдет к ним.
Всю ночь Григорий провел в воспоминании и слезной молитве. Предыдущий день принес ему печальные известия.
— И в Духа Святаго, Господа, животворящего, Иже от отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых. И жизни будущаго века. Аминь. – вспоминал Григорий главное решение — главный догмат Собора – Прощайте! и вспоминайте о трудах моих! – серебряная слезинка выкатилась из уставших глаз и, скользнув по морщинистому лицу, упала на каменный пол – Они уклонились от ответного решительного слова, а я оставил собрание, но с радостью и… каким-то унынием. Слава Богу! Радуюсь – прекратятся труды мои; скорблю – что будет с народом? неужели мне не думать, не печалиться об этих сиротеющих детях? Господи, помоги мне упражняться в приобретении простоты сердечной, ибо от этого зависит спасение! Впрочем, знаю, и знаю более, чем было бы нужно, что Собор тотчас почтил меня беспрекословным согласием. Так отечество вознаграждает друзей!
Покланяюсь Отцу, и Сыну, и Святому Духу, личные свойства, разделяя, а Божество – соединяя. Не смешиваю Трех Ипостасей в одно, чтобы не впасть в недуг Савеллиев, и Единаго не делаю на три сущности разнородные и чуждые друг другу, чтобы не дойти до Ариева безумия. Помоги господи!
…Не должно быть таким почитателем Отца, — вспоминал Григорий свое слово о Троице, — чтобы отнимать у Него свойство быть Отцом. Ибо чьим будет Отцом, когда отстраним и отчуждим от Него вместе с тварью и естество Сына? Не должно быть и таким Христолюбцем, чтобы даже не сохранить у Него свойства — быть Сыном. Ибо чьим будет Сыном, если не относится к Отцу как виновнику? Не должно в Отце умалять достоинства — быть началом, — принадлежащего Ему как Отцу и Родителю. Ибо будет началом чего-то низкого и недостойного, если Он не виновник Божества, созерцаемого в Сыне и Духе. Не нужно все это, когда надобно и соблюсти веру в Единого Бога, и исповедовать три Ипостаси, или три Лица, притом Каждое с личным Его свойством. Соблюдется же, по моему рассуждению, вера в Единого Бога, когда и Сына, и Духа будем относить к Единому Виновнику (но не слагать и не смешивать с Ним), — относить как по одному и тому же (назову так) движению и хотению Божества, так и тождеству сущности. Соблюдется вера и в Три Ипостаси, когда не будем вымышлять никакого смешения, или слияния, вследствие которых у чествующих более, чем должно, одно, могло бы уничтожиться все. Соблюдутся и личные свойства, когда будем представлять и нарицать Отца безначальным и началом (началом, как Виновника, как Источника, как Присносущного Света); а Сына — нимало не безначальным, однако же и началом всяческих.
Когда говорю: Началом — ты не привноси времени, не ставь чего-либо среднего между Родившим и Рожденным, не разделяй Естества худым вложением чего-то между совечными и сопребывающими. Ибо если время старше Сына, то, без сомнения, Отец стал виновником времени прежде, нежели — Сына. И как был бы Творец времен Тот, Кто Сам под временем? Как был бы Он Господом всего, если время Его упреждает и Им обладает? Итак, Отец Безначален, потому что ни от кого иного, даже от Себя Самого, не заимствовал бытия. А Сын, если представляешь Отца Виновником, не безначален (потому что Начало Сыну — Отец как Виновник); если же представляешь себе Начало относительно ко времени — Безначален (потому что Владыка времен не имеет начала во времени).
А если из того, что тела существуют во времени, заключишь, что и Сын должен подлежать времени, то бестелесному припишешь и тело. И если на том основании, что рождающееся у нас прежде не существовало, а потом приходит в бытие, станешь утверждать, что и Сыну надлежало из небытия прийти в бытие, то уравняешь между собою несравнимое — Бога и человека, тело и бестелесное. В таком случае Сын должен и страдать, и разрушаться, подобно нашим телам. Ты из рождения тел во времени заключаешь, что и Бог так рождается. А я заключаю, что Он рождается не так, из того самого, что тела так рождаются. Ибо что не сходно по бытию, то не сходно и в рождении; разве допустишь, что Бог и в других отношениях подлежит законам вещества, например, страждет и скорбит, жаждет и алчет, и терпит все свойственное как телу, так вместе и телу и бестелесному. Но сего не допускает твой ум, потому что у нас слово о Боге. Посему и рождение допускай не иное, как Божеское. Но спросишь: если Сын рожден, то как рожден? Отвечай прежде мне, неотступный совопросник: если Он сотворен, то как сотворен? А потом и меня спрашивай: как Он рожден?
Ты говоришь: «И в рождении страдание, как страдание в сотворении. Ибо без страдания ли бывает составление в уме образа, напряжение ума и представленного совокупно разложения на части? И в рождении так же время, как творимое, созидается во времени. И здесь место, и там место. И в рождении возможна неудача, как в сотворении бывает неудача (у вас слышал я такое умствование), ибо часто, что предначертал ум, того не выполняли руки». Но и ты говоришь, что все составлено словом и хотением. «Той рече, и быша: Той повеле, и создашася». Когда же утверждаешь, что создано все Божиим Словом, тогда вводишь уже не человеческое творение. Ибо никто из нас производимого им не совершает словом. Иначе не было бы для нас ничего ни высокого, ни трудного, если бы стоило только сказать и за словом следовало исполнение дела.
Поэтому если Бог созидаемое Им творит словом, то у Него не человеческий образ творения. И ты или укажи мне человека, который бы совершил что-нибудь словом, или согласись, что Бог творит не как человек. Предначертай по воле своей город, и пусть явится у тебя город. Пожелай, чтобы родился у тебя сын, и пусть явится младенец. Пожелай, чтобы совершилось у тебя что-либо другое, и пусть желание обратится в самое дело.
Если же у тебя не следует ничего такого за хотением, между тем как в Боге хотение есть уже действие, то явно, что иначе творит человек, и иначе — Творец всего — Бог. А если Бог творит не по-человечески, то как же требуешь, чтобы Он рождал по-человечески?
…Рождаешь по-человечески, — повторил Григорий.
Солнце уже светило в маленькие окна Церкви Анастасии и, отражаясь от стен, падали на Владыку. Пришло время трапезы.
— Доброе утро, Ваше Высокопреосвящеснство, благословите! – поприветствовав Григория, сказали собравшиеся.
— Доброе утро, дорогие, — он благословил их двумя руками; затем, благословляя трапезу – Благослови, Господи, ястие и питие рабом Твоим, яко свят еси всегда, ныне и присно, и во веки веков.
— Владыка, нынче слухи ходят, что Вас осудили на Соборе…
— Да, — милость Божья! – осудили; мне пришлось оставить Кафедру.
— И кто ее займет теперь?
— Думаю, претор Нектарий, но помните: Господь не оставит паству без Пастыря. Нужно только подождать.
— Хорошо, что Максима собор осудил. Помните его?
— Да, циник…
Тот же стол, так же светило солнце, только не было всех этих людей. Был только он [Григорий] и Максим с длинной бородой, блестящими пустыми глазами, растрепанными вьющимися волосами, спускавшимися до плеч, в белой одежде философа. Было в нем что-то страшное и дикое; он не был образом подвижничества и аскетизма, но более походил на голодного шакала, умело примерившего овечью шкурку, и готового вот-вот броситься на жертву.
— Итак, приступи, наилучший и превосходнейший из философов (присовокуплю даже) и из свидетелей истины! Приступи, обличитель лжеименной мудрости, которая состоит в одних словах и очаровывает сладкоречием, а не может и не хочет взойти выше этого! Приступи, одинаково искусный в добродетели, как в созерцательной, так и в деятельной, ты, который, и в чуждой для нас одежде, философствуешь по-нашему. А может быть, и одежда твоя нам не чужда; так как и ангелам свойственно быть светоносными и сияющими, когда изображают их в телесном виде, что считаю символом естественной их чистоты. Приступи, мой философ и мудрец (ибо доколе любить мудрость, если нет мудрости?)! Приступи, пес; назову так не за бесстыдство, но за дерзновение, не за ненасытность, не за то, что ограничиваешься насущным, не за даяние, но за сбережение доброго, за неусыпность в охранении душ, за то, что ласкаешься ко всем, которые тебе — свои в добродетели, а лаешь на всех чужих! Приступи и стань близ этой Жертвы, у этой таинственной Трапезы, подле меня, который этой Жертвой тайноводствует к обожествлению! Тебя приводят к ней и учение, и жизнь, и очищение посредством страданий. Приступи; увенчаю тебя нашими венцами, и не среди Олимпии, не на малом позорище Эллады, не за отличие в борьбе, или в рукопашном бою или в беге, не за другие маловажные подвиги, совершаемые для маловажных наград и в честь кого-либо из героев или демонов, прославленных несчастием и баснословием (ибо подобное этому уважается и чествуется ими, после того как неразумие призвало себе в помощники время и обычай, ставший законом), но перед Богом, перед ангелами, перед всей полнотой Церкви, громогласно провозглашу о тебе, победившем ложь ереси, во славу Живого Бога, собственными страданиями учащего страдать, — победившем за такую награду, чтобы принять небесное царство, стать богом, не подлежащим страданию.
Было что-то в Максиме, что привлекало Григория, или же он хотел только уврачевать заболевающую душу? или направить на путь истинный? или видел в этом шакале что-то, что не видели другие. «Хотя болен я телом,- говорит Григорий, — но буду хвалить философа (ибо и это есть знак любомудрия); и поступлю весьма справедливо. Ибо он философ, а я служитель мудрости; почему мне и прилично хвалить его, чтобы доказать свое любомудрие, если не другим чем, по крайней мере, удивлением философу…» Может борьба Максима с арианами, может уважение среди знаменитых александрийских богословов, может знаменитые труды и переписки, может вся предыдущая жизнь привлекали в нем Григория. Может, что-то еще.
Но, как говорится, Григорий пригрел на груди своей змею, да не простую, а хитрого удава, долго выжидающего и, подобно молнии, сжимающего свою жертву. Как хватило наглости ему искать себе власти – метить на Кафедру – и мило беседовать с Григорием о Троице, о догматах, о жизни… Как он мог сносить взгляд Григория и пялиться своими глазами в глаза Святителя.
Знал циник, что кафолическая паства просила Григория приехать в Константинополь, знал, но все равно готовил интригу.
Григорий разделял с ним трапезу, когда внесли письмо от архиепископа Александрии, Петра II. Как обрадовался Григорий поздравлению с прибытием в Константинополь и началом служения.
И вот, летом 380 года. Под покровом ночи, словно разбойники, или крысы, задумавши украсть где-то еду, шли клирики и монахи из Египта (приехавшие вместе с торговыми кораблями, груженными пшеницей) к Храму Анастасии. Григорий, по промыслу Божьему, лежал дома болеющий. Опять недуг властвовал над его телом, но душа по прежнему была устремлена к Богу. Он телом болел здесь, но духом был на Небе с другом Василием, благодаря Бога за Его Любовь ко грешным…
В полночь начался постриг. Египетские епископы начали рукополагать Максима. Его уже посадили на архиепископский престол, но Господь не дал случиться беззаконию: болезнь отошла от Григория, почувствовав, что это Божье веление, как только суставы наполнились силой, Григорий пошел в свою Церковь. Паства, не хотевшая тревожить любимого Владыку, негодовала на улице. Уже начало светать, когда епископы начали пилить волосы Максима; Григорий вошел в Храм, за ним толпы народа… Как же он был разочарован, даже догадываясь, он до последнего надеялся, что это другой Максим, но люди сами избирают себе дорогу, Максим избрал свою.
Отслужив Божественную Литургию, Григорий обратился к пастве со следующими словами:
— Я желал быть с вами, дети, и вы в равной мере желали быть со мной. Верю этому, и если слово требует подтверждения, — клянусь: свидетельствуюсь в том похвалой вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем! Эту клятву дал Дух Святой, подвигший меня к вам, да уготовлю Господу народ особенный. Смотрите, какова вера: и за себя уверяю, и за вас ручаюсь. И это нимало не удивительно. Где общий дух, там и чувствования общие; а где равно чувствуют, там равно и верят. Кто сам не ощущал чего, тот не поверит и другому; а кто чувствовал, тот готов дать согласие; он — невидимый свидетель невидимого чувствования, он — собственное зеркало для чужого образа…
Тот же стол. Люди, которые не предадут, которые до конца. Максима нет. Но, это свойственно не просто старым добрым людям, а лишь не многим, кто так прониклись Любовью, что сами стали Любовь, Григорий вспомнил только беседы за трапезой с Максимом и свою речь. Он не вспомнил того зла, что причинил ему циник, он не обиделся тогда, и, даже, не расстроился сейчас, наоборот, ему припомнились слова: «Не море ли жизнь наша и дела человеческие? И в ней много соленого и непостоянного…» Григорий рассмеялся.
Сидевшие за трапезой не поняли причины веселья Владыки, и удивленно на него посмотрели.
— Смех. Запомните, дорогие: смех – самое сильное оружие в победе над гневом. Страдать православным придется, и щитом их и славой станет Вера, но больше будут искушать, нежели мучить, ибо мучением сотворят мучеников, а соблазнами – грешников. И когда раздражают вас, смейтесь, ибо смех побеждает гнев. Что же касается циника, Собор ясно постановил: все ничтожно.
— И… что же? Куда вы дальше, Владыка?
— Наверное, в Арианз, в свое имение. Я слышал, завтра отплывает корабль в сторону Кесарии. Вот и отправлюсь в последнее путешествие. Только… я бы хотел, чтобы ни кто не знал.
— Вы можете остаться, — обратился к Григорию хозяин дома.
— Благодарю, не стоит. Я соскучился по родной Каппадокии, по ее траве, по ее солнцу и песку, по склонам, по маленьким домикам и монашеским кельям, по воздуху, что наполнял наши груди. Поселюсь в маленьком домике, буду писать стихи. Эти холодные каменные стены на меня давят, моим старческим легким нужен простор.
Оставалось еще время, чтобы в последний раз пройтись по Константинополю, по его однообразным пыльным улочкам, шумным базарам. Григорий подошел к своей любимой Церкви:
— Прости, Анастасия, получившая от благочестия наименование, ибо ты воскресила нам Учение, дотоле презираемое! Прости место общей победы, Силом, в котором сначала водрузили мы скинию, сорок лет носимую и блуждавшую по пустыне! Прости, великий и славный храм, новое наследие, храм, который прежде был Иевусом, а через меня сделан Иерусалимом! Простите и прочие храмы, близкие по красоте к Анастасии, храмы, подобно узам, связующие собой разные части города, и присвоенные той части, которая с каждым соседственна, храмы, которые наполнил не я, имеющий столько немощи, но наполнила благодать, со мной отчаянным! Простите, Апостолы, прекрасное селение, мои учителя в подвижничестве, хотя я и редко торжествовал в честь вашу, нося в теле, к собственной пользе, может быть, того же сатану, который был дан вашему Павлу, ради которого и ныне от вас переселяюсь! Прости Кафедра — эта завидная и опасная высота; прости собор архиереев и иереев, почтенных сановитостью и летами; простите все, служащие Богу при священной трапезе и приближающиеся к тому, кто приближается к Богу! Простите ликостояния назореев, стройные псалмопения, всенощные стояния, честность дев, благопристойность жен, толпы вдов и сирот, очи нищих, устремленные к Богу и к нам! Простите страннолюбивые и христолюбивые дома, помощники моей немощи!
Простите любители моих слов, простите и эти народные течения и стечения, и эти трости, пишущие явно и скрытно, и эта решетка, едва выдерживающая теснящихся к слушанию! Простите цари и царские дворцы, и царские служители, домочадцы, может быть и верные царю (не знаю этого), но по большей части неверные Богу! Плещите руками, восклицайте пронзительным голосом, поднимите вверх своего витию! Умолк язык для вас неприязненный и вещий. Хотя он не вовсе умолкнет и будет еще препираться рукой и чернилами; но в настоящее время мы умолкли. Прости град великий и христолюбивый! Ибо засвидетельствую истину, хотя и не по разуму эта ревность, разлука сделала нас более снисходительными. Приступите к истине, перемените жизнь свою, хотя поздно, чтите Бога более, нежели насколько привыкли! Перемена жизни нимало не постыдна; напротив, хранение зла гибельно. Простите Восток и Запад! За вас и от вас терпим мы нападение: свидетель этому Тот, Кто примирит нас, если не многие будут подражать моему удалению. Ибо не утратят Бога удалившиеся от престолов, но будут иметь горнюю кафедру, которая гораздо выше и безопаснее этих кафедр. А сверх всего и больше всего воскликну: простите ангелы, назиратели этой Церкви и также моего здесь пребывания и отшествия отсюда, если только и мои дела в руке Божией! Прости мне Троица — мое помышление и украшение! Да сохранишься у этого народа моего и да сохранишь его (ибо он мой, хотя и складывается жизнь моя иначе); да возмещается мне, что Ты всегда возвышаема и прославляема у него и словом и жизнью! Чада! Храните предания, помните, как побивали меня камнями. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
— Аминь! – сказали собравшиеся люди.
Весть об отплытии Григория распространилась быстро, введя всех в состояние скорби – ни кто не смеялся, ни кто не шутил за прилавками на базаре, дети не играли на улицах, даже царь Феодосий облачился в траурные одежды – он мог бы повлиять на Собор, но медлил; боялся – в итоге, Григорий ушел сам – теперь совесть обличает, мучает, но он, словно умыл руки, подобно Пилату, бездействовал.
— Повлиять на Собор! – думал Феодосий – Пока не все кончено! Пока не поздно! На кого останется Кафедра? На КОГО?
На следующий день, на пристани собралось много народа. Многие плакали. Такого не было даже в Великую Пятницу. Чтобы люди так переживали. Среди плачущих были и те, кто смеялись над Григорием, и те, кто били его камнями, и те, что завидовали, и те, что «пакости деяли» — все, от мала до велика, стали овцами Пастырю, Пастырю с изнеможденным постами и молитвами телом, с поникшим взором, все, приклонились перед Божьей наковальней и те, что любили Святителя, и те, что говорили: «Мы рабы времени и народных прихотей, а ты – неподвижная наковальня. Как будто всегда одна вера, что так сильно стесняешь догмат Истины, ступая все время по одной скучной стезе слова. Так для чего же тебе, превосходнейший, и народ привлекать говорливым своим языком?», и, даже, юноша Феофан, что пришел как-то убить Григория, но увидев его не дряхлого старика, из-за болезни лежащего на диване, но воина Церкви, окруженного божественной славой и Ангелами, упал к его ногам и… услышал слова: «Твоя дерзость сделала тебя моим. Иди же не посрами меня и Бога!» Что лучшее он мог услышать: его не побили, не предали анафеме, не обругали, но, словно благоразумного разбойника, покаявшегося, простили и пустили с миром. И сейчас, Владыка не прошел мимо, он кивнул ему головой; ни кому-нибудь другому, а ЕМУ, только ему; и не просто – небрежно – но почтительно, как равному. Это еще больше поразило Феофана, других же удивило – действие Любви, исходящее из Владыки.
— Прощай, град Константина, прощай.
III
Большой торговый корабль отплыл в сторону Каппадокии. Это было мощное судно с красными парусами, отливавшими золотом, когда на них падали лучи солнца; с фигурным изображением головы гуся, или, скорее, лебедя вместо носовой оконечности. Казалось, это непотопляемое судно… Впрочем, на все воля Божья, но корабль со своим «Пророком Ионой» спокойно вышел из порта, и направился в открытые воды. Арианство и прочие ереси стали вне закона: «собрания их (прочих безумствующих) не называть Церквями, и преследовать по царскому велению и на то Божьему произволению». Так долго Церковь была в притеснении, что как бы ни впасть в соблазн, не стать мучителями для своих бывших мучителей; но Святитель призывает (он уже на корабле, уже уплыл), слова его еще в воздухе, в сердцах людей: «Любовью просвещайте: душе израненной, доброе слово – лекарство. И от малой искры возгорается пламень великий, ибо душа есть дыхание Божие, и, будучи небесною, она претерпевает смешение с перстным. Это свет, заключенный в мрачной пещере, однако же божественный и неугасимый. Так дайте этому свету дорогу – будьте светильниками другим».
Соленая вода за бортом, легкое покачивание, дуновение встречного ветра – как долго всего этого не хватало Григорию, как давно он хотел сбежать. Единственная мечта – вести жизнь созерцательную, познать Господа всею мыслию и всем сердцем, познать до глубины души. Но все было предначертано иначе: пресвитерство, архиерейство, борьба с ересями, защита паствы и Церкви – овца, которая стала львом; старик, победивший ересь не силою, но скромностью и молитвою. Побиваемый камнями судья, помиловавший и простивший своих мучителей. Он явно следовал словам Христа: любите друг друга, прощайте врагов ваших, ибо вы – соль мира. Разумейте языцы и покаряйтесь, яко с нами Бог!
— Ваше Высокопреосвященство, — обратился к Григорию невысокий монах средних лет, с выбритой макушкой, поехавший посмотреть восточную часть Империи. Он был родом из Рима, и большую часть своей сознательной жизни прожил именно там – среди пыльных улиц, выжженных солнцем зданий, Колизея, с его кровавым предназначением – всего того, что называют второй природой, т.е. созданной руками человека – и теперь, в свои тридцать лет, — а родственников у него не было – решил отправиться в путешествие, дабы увидеть тот первозданный мир – мир, созданный Творцом, во всей его красоте и гармоничности. И теперь, узнав, что на одном корабле с ним едет САМ Григорий, он возблагодарил Бога, и, не упуская такую возможность, решил как можно быстрее подойти к Григорию, и попробовать (он боялся, что Владыка не будет с ним разговаривать) поговорить с ним. Будучи человеком созерцающим, не жаждущим власти, его тянуло к Григорию, как тянет той невидимой силой к родному по духу человеку.
Григорий стоял на юте и облокачивался на края борта, когда к нему обратился монах, и знаком руки предложил встать рядом.
— Меня зовут Соссий. Я монах. Родом из Рима. Путешествую по восточной части Империи.
— Григорий, архиепископ Сасимский. – представился Григорий, как бы опуская свою «принадлежность» к Кафедре. — Как поживает папа Дамасий, верный борец с Арием?
— Староват он уже – восемьдесят второй год идет. Он протестовал против некоторых решений Собора. Но победе над Арием, говорят, обрадовался, и с решением о Максиме Кинике был согласен. «О Максиме Кинике и о произведенном им безчинии в Константинополе: ниже Максим был, или есть епископ, ниже поставленные им на какую бы то ни было степень клира, и соделанное для него, и соделанное им, все ничтожно.» — проговорил Соссий, уже слышанные Григорием слова, как бы говоря ему, что все равно считает его законным архиепископом Константинопольским.
— Не долго ему осталось…
– Как все же красив мир Божий!
— Да, жаль многие его не видят… ничего не видят.
— Но, если им сказать…
— К сожалению, изрекать могут многие, а вот понимать – не все. Что бы понять всю красоту, нужно для начала выйти из себя, полюбить прежде других, делать добро и помогать ближним. И не тем ближним, которых любишь или уважаешь, а тем, кто сейчас, в эту самую минуту, здесь, ждут твоей помощи. И если ты имеешь возможность им помочь – ты обязан это сделать, потому что Христос пострадал за тебя, уже помог тебе, уже уврачевал твои раны. Безумен, кто в богатстве забудет друга.
— Но Владыка, неужели не говорить вовсе?
— Конечно лучше смолчать, чем худое молвить, но доброе слово для израненной души – лекарство. Великое дело и говорить о Боге, но еще больше – очищать себя для Бога.
— А как же поступать, когда люди возвеличивают только тех, кто творит худое? Как они послушают не привлекательного для них человека?
— Никогда не делай ничего постыдного, хотя оно действительно нравится многим, и не оставляй доброго дела, хотя оно и не нравится порочным, как не нравился Иисус фарисеям. А что хорошего в возвышении над другими? Возвысившийся высоко – падает глубоко. Для меня же равно худо и негодная жизнь, и негодное слово. Потому что если имеешь одно, будешь иметь и другое. Людям свойственно тянуться к свету, как ночью мотылькам к свече: говори правду, твори добро – и многие души спасешь.
— Владыка, а как вы относитесь к снам? Ибо меня именно сон сподвиг на путешествие.
— Сны бывают разные: некоторые от Бога, а некоторые от искусителя. Так, Бог во сне многим являлся, некоторых ободрял, другие получали ответы; а некоторые искушались снами, впадая в ереси, гордость и прочие душевные недуги. Но помнится мне один чудесный сон, через который ободрил меня Господь:
Помню, сладким покоился я сном, и ночное видение представило мне мой Храм – мою Анастасию, к которой весь день стремились мои мысли. Она первая высокое слово, остававшееся дотоле у подножия горы, возвела на самую ее вершину. Поэтому и наименование Храму сему – Анастасия – произведение моей неленостно потрудившейся руки.
И вот вижу я, что сижу на высоком престоле, однако с не поднятыми бровями (нет, даже во сне я не служил гордости). По обе стороны от меня, ниже, сидели пресвитеры в преклонном возрасте. В светлых одежда стояли диаконы, подобные образам ангельской светозарности. Народ же, подобно пчелам, жался к решетке, и каждый усиливался подойти ближе; другие теснились в священных преддвериях, одинаково поспешая и ногами и слухом; а иных препровождали к слушанию слов моих еще и пестрые торжища. Девы чистые, вместе с женами благонравными, с высоких крыш преклоняли слух.
И то еще присоединилось к обаяниям ночи. Народ стоял, разделившись на части, желая слышать мое слово. Они требовали слова доступного разумению, потому что не хотели и не привыкли рассуждать и простирать мысль к горе. Другие, напротив, желали речи возвышенной; и таковы были старавшиеся глубоко исследовать ту и другую мудрость, — и нашу, и чуждую нам. С обеих сторон были слышны восклицания, которыми выражались противоположные желания слушателей. Но из уст моих изливалась только досточтимая Троица, сияющая тремя явленными нам Красотами. Я звучным голосом низлагал противников, потоками пламенеющего Духа, порывами своей речи. Одни приходили в восторг, другие не понимали, иные пытались издеваться, а некоторые возражали только мысленно, ибо прекословие, прежде, нежели разрешалось словом, замирало в самых болезнях рождения; иные, как волны, воздвигаемые ветрами, вступали в борьбу. Но добрая речь услаждала всех: и красноречивых и сведущих в священном слове благочестия, и наших, и пришлых, и даже тех, кто весьма далеки от нашего двора, будучи жалкими идолопоклонниками. Как виноградинка, озаренная теплыми лучами солнца, еще не зрела, но начала понемногу умягчаться, и не совсем зрела, но, конечно, и черна, и румяна отчасти, где-то уже зарделась, а где-то еще наполнена кислым соком, так и они различались зрелостью повреждения, и я восхищался уже необходимостью обширнейших точил.
Таково было мое видение – таков был мой сон. Но голос петухов похитил его у меня, а вместе с ним и мою Анастасию. Некоторое время носился предо мной призрак призрака, но и тот, постепенно исчезая, скрывался в сердце.
Так они беседовали, покуда корабль не пристал к пристани, на которой Соссий сошел с корабля, продолжая свое путешествие по суше, а Григорий остался на корабле, потому что имел твердое решение плыть в родной Назианз; ему, конечно, хотелось путешествовать с этим монахом, но этому мешала старость, подорванное здоровье и частые болезни. Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, но видимо Богу так угодно для нашего же блага; видимо Ему было угодно, чтобы Григорий остался на корабле, довольствуясь той небольшой радостью общения, которую Он ему ниспослал.
Солнце клонилось к закату, красно-золотые лучи его из воды пронзали небо, подобно тому, как руки молящихся тянутся к Богу. Вода имела синий, с легкими оттенками зеленого и бирюзового, цвет. Поэтому казалось, что огромный солнечный диск тает в воде, растворяется в ней, наполняет воду светом, как любовь наполняет сердце теплом. Вся эта картина поразила Григория и он предался сладкому воспоминаю о своей молодости…
IV
— Мама…
— Григорий! – отозвалась средних лет женщина по имени Нонна, бегущему ей навстречу, босыми ногами по зеленой траве, маленькому мальчику – вымоленному у Бога первенецу – с сияющим счастьем лицом, светлыми (немного выжженными солнцем), слегка вьющимися, волосами; карие его глаза были полны радости и веселья, впрочем, как и озорная улыбка. Все в нем выдавало долгожданного ребенка. Бессонными ночами она, проливая потоки слез, молилась Господу, чтобы тот ниспослал ей родить мальчика. И вот, когда близился срок родам, ночью, под печальную музыку дождя, она во сне увидела его – Григория – в епископской одежде на Константинопольском Престоле; его, похожего на своего отца, только величественнее и, в тоже время, скромнее. Вот он служит Божественную Литургию; вот восхваляет Всесвятую Троицу, Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа – единосущного (в трех Ипостасях) и неделимого. И ясно слышится ей от диакона: «О господине и отце нашем, святейшем Григорие, архиепископе Константинопольском…». Сердце матери замирало на каждых словах. «Григорий, — думала она, — вот ЕГО имя; вот он сын мой; Григорий!»
Радостная она вскочила с постели, благодаря Бога, побежала к мужу, и, несмотря на большой живот, не бежала, а словно летела к нему, в маленькую Церковь, не обращая внимание на дождь.
Григорий-старший молился в Церкви, стоя на коленях.
— Господи! услышь молитву мою, и вопль мой к Тебе (!) да придет. Днем и ночью, и во всех обстояниях жизни, буду взывать и воспевать всесвятое Имя Твое, Бога Воскресшаго и не побежденного, Бога Вседержителя от века. На Престоле во чертогах горних воссевшаго судить Правдою – Праведный Судия Вселенной. Услышь вопль мой, Господи, вопль раба Твоего, грешнаго служителя; грехами облеченнаго, Суд себе самаго творившаго: вкушающаго и пиющего; Плоть Твою и Кровь вкушающаго во грехах пребывающа. Помяни мя Господи щедротами Твоими. Ибо не кто от Ангел достоин Служить Тебе, связвны бо грехми и плотскими похотьми, но по Твоей милости и любви к роду человеческому взываю: прости. Ей Господи, покровителю и защитниче мой, изведший мя из идольского соблазна, из руки аггела сатаниня, из погибели вечныя; пославший мне недостойному жену — Нонну, и чрез нея спасение, такожде, прошу, даруй дитяте мужеско, и яко Иоаким со Анною дитяте, егоже Ты послал, Тебе принесем…
При тусклом свете лампад, он был похож на немую глыбу, непоколебимый столб; бывший аристократ и идолопоклонник ипсистарианин, женившийся на Нонне, и под силой ее веры обратившийся в 325 году к участникам Первого Вселенского Собора, чтобы те крестили его. Архиепископ Каппадокийский Леонтий в 328 году крестил его и сделал пресвитером, а потом и возвел в епископский сан. Так в Назианзе появился епископ, который через семь лет построил большой восьмиугольный кафедральный собор, ставший прообразом Святой Софии.
Но сейчас в 329, Собора еще не было. Епископ Григорий жил со своей семьей в родном имении в Арианзе, в котором, помимо прочих строений, была небольшая Церковь. Он молился перед каменным Престолом, за которым возвышалось большое изображение Креста, догорало несколько свеч.
— Григорий! – воскликнула, вбегая (мокрая), Нонна.
— Дорогая, что случилось? – ответил ей, оторванный от молитвы и размышлений, взволнованный Григорий.
— Григорий… я видела сон: Господь услышал наши молитвы! у меня будет мальчик! Я видела его в архиерейском облачении на Константинопольской Кафедре; ему сослужили многие старые пресвиторы и диаконы, приветствуя, как архиепископа Григория!
— Слава Богу! – ответил Григорий, обнимая взволнованную жену. Он искренне радовался этому событию, потому что жаждал рождения мальчика (о чем и молил Бога); он горячо любил свою добрую и кроткую жену, которая полностью опровергала слова о женщинах, сказанных в Паралипоменоне; сердце его колотило, уступая только скорости ее сердца, а под самым ее сердцем, тихо спал тот, кому предстояло уподобиться самому Апостолу Иоанну, стать тем, кого Церковь назовет Вторым Богословом.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Где найти еще страну,
В которой люди будут жить в пещерах,
В которой Бога наяву,
Увидят и изобразят на стенах?
Каппадокия!
В пещерах старцы молились, взывая:
«Мария!»
И жили, будто в преддверьях рая.
Твоих красот не восхвалит язык,
Твоих пещер не увидит глаз,
И где-то там, вдалеке, пасется бык,
И не хватит мне на все красивых фраз…
А мальчик все бежал навстречу маме. Маленькая зеленая травка, редкими пучками, пробивалась из, засыпанной песком и камнями, почвы. Яркое солнце слепило глаза. Незамеченный уступ.
Упал.
Мать бросилась изо всех сил к сыну. Обняла его и приласкала, подобно орлица орленка, оберегающая от всего. Как трудно видеть сейчас маленьким ребенком ей того, кто в будущем превзойдет многих. Сейчас, это только маленький человечек, который заливается радостным смехом – беззаботный – еще не зная, какой ему уготован путь. Подобно тому, как сердце Марии ликовало при виде маленького Иисуса и как разрывалось при мысли о том, что Ему предстоит сделать, сердце Нонны также ликовало и разрывалось. Но эти минуты, минуты беззаботной радости ее сердце откладывало в лучшие сокровищницы, как самую величайшую драгоценность. И правда, что может быть лучше беззаботного детства? что может быть дороже семьи?
Что дороже любви матери к ребенку?
— Дорогой мой, тебе нужно учиться, поэтому завтра ты поедешь в Назинз к своему дяде Амфилохию. Нам придется ненадолго расстаться, потому что я буду нужна здесь твоему отцу; к тому же, у тебя скоро будет братик или сестричка – ты рад?
— Мама! а ты после этого будешь меня любить?
— Солнце мое! Как же я могу тебя не любить?! Ты – мой долгожданный, вымоленный у Бога…
— Что значит «вымоленный у Бога», мам?
— Видишь ли, у нас с твоим папой долгое время не было детей – Господь не посылал нам детишек – а мы, к тому же, хотели мальчика. Мы, подобно Иоаким и Анна, много молились – испрашивали у Бога тебя. Помню: уже поздно было, луны не было видно из-за туч. Лил дождь. Такой же, как в день твоего рождения. Я молилась. Немного задремала. Вижу: тебя…
— Как видишь? Как сейчас?
— Нет, уже взрослым; но я поняла, что это ты. Я слышала, как они называли тебя Григорием. Видение кончилось, а через некоторое время родился ты. С той ночи я знаю, что тебе нужно учиться.
Она крепко обняла сына.
— Мама, как же я люблю тебя!
— Я тебя тоже, дорогой мой! – на ее глазах были слезы.
На следующие утро, с первыми лучами солнца, Григорий-старший и его сын выехали из своего родового имения на лошадях в сторону Назианза. Было достаточно тепло, хотя косые лучи солнца еле-еле касались земли. Ничего не предвещало дождя. Отец и сын за всю дорогу не проронили ни слова: Григорий даже в малом возрасте отличался от других детей молчаливостью, но если он начинал говорить, это была очень связная и красивая речь – многие думали, что из него получится хороший философ-оратор. Лошади cкакали быстро, но… как-то грустно. «Как это лошадь может скакать грустно?» – спросите вы, это сложно объяснить, но это так; не лицо выражает грусть, а все ее тело: от головы до хвоста, походка – то, как она переставляет копыта. Казалось, им было грустно разлучать дитя и мать, хотя, они понимали, что это необходимо, что нужно чем-то жертвовать, но все же. Все же жалко было их лишать счастья общения. Детство – это время, когда необходимо общение родителей и детей, потому что потом на это может не хватить самую малость, да-да, именно его, – времени. Но Григорию необходимо было обучение. Не сказать, что и дяде тоже было грустно – это равносильно тому, если сказать, что он был рад их разлуки; а разве у него нет сердца? все жертвовали – ради образования, ибо все знали, что уготовано Григорию…
Дядя Амфилохий был человеком еще не пожилым, но и не средних лет, почти лысый – седые волосы редкими бороздками обрамляли его голову – длинная и узкая борода, равнобедренным треугольником, лежавшая на груди, тоже имела цвет выпавшего в горах снега. Он был мудрый человек, знавший свое дело – он всю жизнь проработал наставником (да, учитель и наставник – это разные люди; учитель не общается с тобой – его задача дать, и не важно, взял ты или нет, а наставник – он ведет тебя, подбирая знания так, чтобы ты их понял; он изучает вместе с тобой, как-бы наставляя тебя на путь истинный) – теперь его учеником (или, наставляемым) был Григорий. Он учил его чтению, грамоте, литературному языку. Дни обучения проходили монотонно и, как-то, скучно. Строго говоря, Григория отправили к дяде, потому что Нонна была беременна и вот-вот должна была родить. Обучение было лишь поводом отправить ребенка к дяде. Как говориться, совместить приятное с полезным.
Через месяц родился Кесарий, и Григория забрали домой. Все, даже маленький Григорий, были заняты домашними хлопотами: стирали пеленки, кормили, поили, убаюкивали – даже, еще вроде бы маленький, Григорий заботился о своем младшем братике. Уже тогда он проявлял способность заботиться, которая в будущем выльется в заботу о богоспасаемой пастве: он словно добрый пастырь, защищающий овец от волков, кафоликов от ариан.