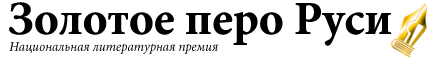Подборка небольших повестей для участия в конкурсе «Золотое перо Руси», под общим названием «Мы жили тогда на планете другой».
1.Катенька или светлячок на ладошке.
2.Побег.
3.И снова осень или пляска рыжего коня.
Катенька или светлячок на ладошке
15 июля 1918 года от рождества Христова, в небольшом женском монастыре, расположенном в урочище реки Исеть, что в нескольких верстах от Екатеринбурга, случился пожар.
В тот день, с раннего утра до самой обедни над куполами обители громыхали глухие раскаты грома и мертвенно — голубоватые молнии, зародившиеся где-то в поднебесье, среди нагромождений угольно-черных туч, с сухим треском и шелестом падали на пыльные, золоченые, увенчанные ажурными крестами луковицы храмов. Высоченные липы, высаженные еще основательницей обители Марфой Золотниковой более двухсот лет назад, с тяжким кряхтеньем раскачивались взад и вперед, разбрасывая вокруг себя желтый, до одури пахучий цвет и ломкие ветви с рваными темно-зелеными липкими листьями.
Неожиданно сухая гроза окончилась, и на измученную летним зноем землю обрушился ливень, громкий и плотный. За час с небольшим, обычно мелководная речушка, вышла из поросших богородской травой и облепихой берегов, и грязным мутным потоком ринулась на монастырский двор, замощенный торчком – небольшими деревянными колодами установленными спилом кверху.
Монашки истово крестились, и, ссутулившись под тяжелыми мокрыми темными одеяниями, спотыкаясь, по колено в воде, с тачками и носилками в руках, спешили в сторону приземистого каменного строения, лабаза, где хранились мешки с мукой, сахарные головы, соль и прочие продукты. Уровень воды поднимался все выше и выше. Того и гляди перехлестнет высокие пороги лабаза и тогда все: прощай запасы на всю обитель, да на многие годы.
Неожиданно ливень закончился и лишь отдельные его капли, вбирая в себя свет темно-багрового солнца, с громким чмоканьем шлепались на отполированную дождем землю.
Высокая, двойная радуга радостно и торжественно обозначилась прямо над монастырем, над его главным и самым высоким храмом, многократно отражаясь в чистых, умытых стеклах стрельчатых окон.
Ну, а через четверть часа, когда все страхи и волнения по поводу разбушевавшейся стихии уже мало по малу утихли, и даже кое-где послышался смешки и шутки молодых монахинь, где-то на вершине ближайшего Шихана, где все еще сохранились вырубленные из столетних лиственниц безглазые, пузатые бабы, установленные в местах древних, языческих капищ, из ничего, из пропитанного озоном грозового воздуха, возник небольшой, яркосветящийся шар. Поплутав среди острых скальных обломков, шаровая молния поплыла влекомая ветром в сторону женского монастыря.
…Старая утомленная игуменья Феодора (вот уж лет как сорок свечница), сняла с себя мокрую рясу и принялась расчесывать седые блеклые и ломкие волосы, благожелательно поглядывая в сторону небольшой, аккуратно заправленной лежанки, предполагая немного вздремнуть после волнений, вызванных грозой. Как вдруг, стекло в узком оконце неожиданно, с громким звоном лопнуло, и в просторную полуподвальную келью, служащую также складом воска, готовых свечей и мотков влетел этот самый, рожденный в прибежище древних тюркских богов шар. Неторопливо пролетев над головой в изумлении застывшей монашки, молния вдруг зашипела и, юркнув в угол у двери, заставленный двухпудовыми бочонками с воском, с грохотом взорвалась. Тот час же полыхнуло и в неправдоподобной тишине волна запылавшего, расплавленного воска ринулась к с криком, забившейся в угол Феодоре.
… За час с небольшим, кедровые балки потолка, под напором в спираль уходящего пламени рухнули, и огонь переметнулся выше: на первый этаж, где в главном пределе церкви красовался высоченный и торжественно — благолепный, сработанный еще в семнадцатом веке иконостас. Древние, заботливо протираемые лампадным маслицем иконы, враз полыхнули, а следом в голодном пламени утонули и резные, золоченые Царские врата.
Особо чтимая монашками и прихожанами древняя икона Спаса нерукотворного, лишь в крупные праздники выносимая из алтаря также сгорела…
1.
Рано утром, когда в блеклой акварели уральских небес, только-только растаял унылый звон большого монастырского колокола, и за высокими обитыми железом воротами утих скрип колес двух пожарных конок, присланных с ближайшего Верх Исетского завода, в келью к настоятельнице, робко постучав в дверь, вошла невысокая молодая послушница.
— Чего тебе, Екатерина?- Старая игуменья тяжело приподнялась с колен – молилась за упокой погибшей свечницы Феодоры.
Послушница подошла к окну и присела на небольшой низенький табурет с коротко спиленными ножками. Дрожащий свет нежаркого пока солнца упал на лицо девушки, и тот час стало заметна ее необычайная красота, которую не смогли погубить даже темные монашеские одежды.
-…В Сергиевом Посаде (проговорила она живо) живет мой дядюшка, Лев Александрович Крючков, двоюродный брат матушки моей. В свое время, когда мы с семьей навещали его, он как-то обмолвился, что в Лавре живет и трудится иконописец из иноков. И, дескать, талантлив и трудолюбив он необычайно, да и в дереве толк понимает: уже не один иконостас сработал.… А вот до денег наоборот, совершенно не жадный. Ради искусства и любви к Богу, за стол работает. Я вот подумала, хорошо бы его к нам, в обитель пригласить.…Все ж таки московская иконописная школа, да и практически задаром…
Игуменья присела на краешек большой железной кровати застеленной серой верблюжьей кошмой и не весело рассмеялась.
– Да Бог с тобой, Катенька.…Каким бы он не был бессребреником, но такую большую работу, как целый иконостас заново соорудить, да к тому же и практически бесплатно.… В нашем, сгоревшем — то, почитай около сотни икон стояло.…А Царские врата? Да и как знать, быть может, последние денечки обитель наша доживает.…Сама видишь, времена какие пошли.…Царя-батюшку, не то в Тобольске, не то у нас, в Екатеринбурге, в заточении держат, ироды. А после январского декрета обитель наша совсем обнищала. Большевики даже посеребренную утварь вывезли. Про золото я вообще молчу.…Чем расплачиваться станем? Нет. Не поедет он к нам…Фантазии все это Катюша…
-А вы матушка благословите на подвиг. Я пешком до Сергиева Посада доберусь, а по пути на восстановление храма подаяния собирать буду.…Сначала в Екатеринбург загляну. Хоть родители и уже с год как оттуда уехали, а все ж родной город, все богатые фамилии мне ведомы.…Я даже попробую подписной лист организовать.…Я слышала, что раньше в нашу обитель частенько крепкие купцы наведывались, с женами да детьми.…Якобы уж очень славно пел наш церковный хор.…Милиощики и те, в слезах всю службу отстаивали.…Так что уж я к ним, по старой памяти — глядишь, и не прогонят…
Ну а если с подписным листком ничего не получится, тогда уж по сибирскому тракту, через Челябу, да на юг.…До Чебаркуля почитай сплошь крепкие казачьи хутора да старообрядческие торговые фамилии проживают – они на пожертвования щедрые. За Каменным поясом крещеные татары да башкиры – тоже что-нибудь на восстановление иконостаса подадут.…А там уже Волга-матушка, Рязань ну и наконец, Златоглавая.…
Благословите матушка.…Благословите, Елизавета Петровна.…Глядишь, с Божьей помощью я в обитель художника привезу… Чем плохо?
…- Ох, девочка…- прошептала игуменья, оглаживая послушницу по тонкой, прохладной ладони.
— Какой же ты, в сущности, еще ребенок.…Не ведаешь, о чем просишь.…К тому же была бы ты девушка из крестьянок или допустим из мещанок, отпустила бы, не задумываясь – они за жизнь покрепче держатся.…А ты из дворянского племени, еще год назад за тобой горничные ухаживали, гувернеры.…Где уж тебе до белокаменной пешком дойти, одной…
Она не успела договорить, как в келью вбежала высокая, широкая в кости женщина.
— Беда матушка, беда!
с порога заголосила она.
— На пожарище чин какой-то большой из Екатеринбурга прибыл. С мандатом и портфелем. При нем два солдатика со штыками и ленточками на бОшках. Вас матушка кличут…
— Вот видишь, Катенька…
вдохнула настоятельница и направилась вслед за монахиней…
— А ты говоришь, благословите.… А впрочем, вправе ли я отказать тебе в этом? Наверное, нет.…Ступай Катерина. И да хранит тебя Господь. Хотя чувствую я, не окрепла ты еще душой для подобного подвига. Нет. Не окрепла…
Игуменья приостановилась в дверях, перекрестила девушку широким крестом и мгновенье, поколебавшись, но так и ничего более не сказав взволнованной послушнице, вышла.
… В самом центре пожарища, под высоким и пегим от жара и копоти барабаном, увенчанным переплетеньем металлических полос (все, что осталось от сгоревшего купола), стоял невысокий мужичок в куцем пальто и с сомненьем разглядывал цепь, темной, просмоленной змеей уползающую вверх, к перекресту двух металлических ригелей.
— Елизавета Петровна Вырубская?- поинтересовался он вполне впрочем, равнодушным голосом.
– Я заместитель председателя комиссии по особым мероприятиям, Копытов Иван Савельевич.
— Что же вы гражданка, нарушаете подписанный, и давно уже вступивший в силу Декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»?
— Вы совсем еще недавно, на прошлой выездной комиссии клялись и божились, что все, что есть в монастыре мало-мальски ценное, добровольно отдаете в наше ведомство на хранение. А что на деле!? Обман!
— И в чем же вы меня, милостивый государь пытаетесь обвинить? В какой лжи!?
Игуменья распрямилась и оказалась почти наголову выше ответственного товарища из Екатеринбурга.
— В обители не осталось ничего из золота или серебра, ни одного оклада от святых икон, ни одного мало-мальски стоящего подсвечника, а слой сусального золота на куполах слишком мал и тонок, даже для того чтобы попытаться снять его к примеру химическим способом…Гальваникой…Овчинка выделки не стоит…
— Отрадно видеть в настоятельнице монастыря женщину с университетским, европейским образованием.
Хмыкнул в прокуренные куцые усишки товарищ из комиссии, и как-то уж очень театрально топнул по полу, заваленному головешками и пеплом коротенькой своей ногой, обутой в невысокий, мягкой кожи коричневый ботинок. Под его ногой вдруг звякнул довольно массивный серебряный слиток, этакая лужица округлой формы из чистого серебра.
— Узнаете канделябр, висевший под куполом, гражданка Вырубская? – поинтересовался товарищ Копытов, ухмыльнувшись…
— Отдайте вы его нам вовремя, глядишь и цела бы осталось цацка ваша…
Презрительно ощеряясь, проговорил, нагибаясь стоящий рядом с монахиней красноармеец, и с трудом прихватив тяжелый слиток, направился к выходу.
— Отдать бы вас под суд, гражданка Вырубская,…- мечтательно щурясь, проговорил Копытов.
– Но, к сожалению, на ваш счет покамест распоряжений не поступало.…А жаль.…Очень жаль. Ну да еще не вечер…Дай срок и все вы, работнички культа отправитесь куда подальше кайлом махать…Ей-ей так и будет.
Он направился прочь из погорелого храма, даже не оглянувшись на отставшего, второго солдатика. Тот, метнувшись, было к сухонькой руке игуменьи для поцелуя, вдруг остановился, скоро и неаккуратно перекрестился и кинулся догонять своего начальника.
…К Екатеринбургу, Катерина подошла под вечер, когда багровое солнце, запутавшись в разлапистых кронах корабельных сосен, уже не мучило, не слепило глаза, а напротив, ласкало взгляд, окрашивая белые стволы берез и длинные лужи, протянувшиеся по вдоль обочин тракта во все оттенки благородного пурпура. Под вечер, когда даже высокие, загаженные грязью и жидким навозом придорожные заросли полыни и татарника, лишь для блезиру сбрызнутые первой росой с растворенной в ней солнцем, выглядели благородно и таинственно.
…Полосатая дощатая будка, стоявшая в свое время возле шлагбаума, преграждавшего свободный проезд в город, куда-то исчезла, да и сам шлагбаум с висящими на нем (надо полагать для проветривания) грязно-серыми солдатскими обмотками, выглядел бесхозным и заброшенным. Вместо обычного солдата, приставленного к шлагбауму, еще пару лет назад днем и ночью щеголявшего в парадном, белом мундире, сейчас на булыге, торчащем среди липучего чистотела, сидел в тоске и небритом подпитии мужик, в мышиного цвета шинели, с какой-то красной тряпицей, привязанной к штыку трехлинейки.
Бессмысленным взглядом слезящихся глаз он проводил молоденькую послушницу и вновь погрузился в тупую прострацию. Рядом с ним, на куцем куске кошмы раскинув руки, лежала в усмерть пьяная, молодая, совершенно голая, дебелая баба. При каждом ее выдохе из носа у нее выползала мутная, полупрозрачная сопля, при вздохе – нехотя уползающая обратно.
По вялым растрескавшимся губам безбоязненно ползала большая, отливающая смарагдом муха.
Некогда большой и богатый на разносолы постоялый двор при почтовой станции, да и сама станция выглядели заброшенными и нежилыми. Сорванные с петель кедровые двери валялись тут же, рядом с дверными проемами, а окна смотрели на проезжающих, слепыми черными провалами с острыми сабельными кривыми осколками стекла по краям…
…Возле почтовой станции, Катеньку окликнул пожилой возница, с трудом взбиравшийся в высокую телегу.
— Тебе куда, дочка? Коли в город, то прыгай ко мне. Мне один ляд в комиссариат, бывшую женскую гимназию по насчет фуража, овса значит, для моей кобылки надоть слетать.…А вдвоем оно, как ни крути, а все веселее.
-Да нет у меня денег, дедушка.
Рассмеялась девушка.
– Совсем нет. Я с Иссети, с пожарища иду, как раз насчет денег.
Катенька щелкнула ногтем по пустой, звонко звякнувшей жестянке, висевшей у нее на шее, немного подумав, легко запрыгнула в телегу и снова рассмеялась беззаботно и весело, по-детски.
— А. — догадался старик.
— Так ты значит, из монастыря будешь? Небось, на ремонт храма собрать надеешься? Напрасно…Напрасно говорю, тебя матушка одну отпустила. Такую молоденькую, да в такое-то время, неспокойное.… Да и меркую я, что денег сейчас в городе ты ни у кого не найдешь.…У кого были – те сбежали, а кто не успел, тех прости Господи, забрали…Революция, мать ее…Я сам еще недавно был ямщиком при почте.…Худо-бедно, но всегда сыт, обут и одет. Двух дочерей замуж отдал.…Одну в Златоуст, другую аж из-под Рязани сосватали.…Да.…Теперь вот при наркоме ихнем подъедаюсь.…Третий месяц обещаниями живу.…Хоть бы копейку заплатили, ироды…Скоро лошадка ноги таскать перестанет…Она же не человек, ей их обещания до фонаря. Ей кажный день питаться требуется.…Овес там, или, к примеру, клевер.…Да ты уснула никак, доченька? Заболтал я тебя, старый хрен? Ну, спи, спи…
Старик накрыл спящую девушку линялой попоной, и слегка шевельнув потрепанными вожжами, причмокнул:
— Ладно старая, хватит подслушивать.…Трогай милая.…Трогай…
Лошадь подумала чуток и, согласно махнув крупной, умной головой, не торопясь поплелась в город, сквозь на глазах сгущающийся сумрак…
2.
…Рано утром, мокрая от росы, старая кобыла, по привычке, без понуканий добрела до высоких, запертых на навесной замок, ворот Гостиного Двора. Остановилась. От души напилась из бочки, установленной под водосточной трубой ближайшего магазинчика и пару раз тихо заржав, уснула так же крепко и спокойно, как спали, сейчас укрывшись одной попоной, молоденькая послушница и старик-возница…
…Екатеринбург, некогда оживленный и богатый уральский город, некоторые улицы которого по изяществу архитектурных ансамблей и богатству магазинов не уступали Санкт-Петербургу или первопрестольной, летом 1918 года выглядел довольно жалко. На прилавках Гостиного Двора вместо обычного, дореволюционного, богатого выбора колбас и разного вида мяса, включая таежную дичь, сейчас лежали сизые от сухожилий конские мосолыги и скукоженные тушки Бог весть, когда освежеванных то ли зайцев, то ли сусликов. В роскошном в свое время магазине «ВИНА и НАЛИВКИ. КОРОБКОВЪ и к0», над входом в который сейчас болталась жестяная вывеска « Красный винокур», в ассортименте значились: «Первач из брюквы» и «Одеколон питьевой», последний впрочем, продавался только согласно мандату, и далеко не всем.…И всюду лозунги, воззвания, плакаты, агитационные телеги с листовками и бесплатными газетами.…И всюду красное, красное, красное, красное…
…Катя проснулась от надоедливого удушливого дыма — возница, скрутив довольно внушительных размеров пахитоску, курил, ловко сплевывая желтой тягучей слюной куда-то под кобылий хвост.
— Доброе утро, дедушка. – Катерина потянулась, осмотрелась и спрыгнула с телеги.
— Спаси вас Бог, что подвезли…
— Да чего уж тут, голуба.…Жаль, что бросить нечего в жестянку-то твою…Пустой я нынче совсем.…Как есть пустой.…А монастырь ваш славный.…Был.… Я там свою бабу отпевал.…Третьего года как.…Да…Хорошая была баба…добрая, услужливая….
Возница помолчал, наматывая вожжи на сухонький кулак.
— А сама-то куда теперь? К солдатикам не советую – и денег не дадут и обидеть могут. Уставший ноне солдатик пошел.…С германской еще уставший…- снова заговорил старик несколько успокоившись.
Катерина задумалась, оправляя черный платок, покрывающий ее головку.
— Да мне, пожалуй, к аптеке нужно.…Той, что к горному ведомству относится.… Там в провизорах наш родственник.… По маминой линии.
Старик закашлялся, поперхнувшись дымом и ненатурально долго вытирая выступившие слезы, все ж таки поинтересовался:- Это какая ж такая аптека? Случаем не та, что напротив усадьбы Харитонова-Расторгуева?
Девушка кивнула, а возница вновь закашлял…
— Не стоит Катюша тебе туда ходить… Не стоит. Уже недели две, как ее подпалили.… Аптеку спалили, а хозяина бают, не то изувечили, не то в распыл пустили…Жиденек вроде…
— Да не еврей он, а француз, да и то наполовину…
Расплакалась послушница и, склонив голову, пошла через площадь, туда, где среди тополей в белом праздничном великолепии возвышался Богоявленский собор.
…Старик – возница оказался прав: денег в Екатеринбурге Катерина не достала. В людей городе из так называемых «бывших» почти не осталось, а купчишек лояльных новой власти уже настолько «обескровили» нынешние градоначальники, что к ним послушница и подойти-то постеснялась…
Несмотря на свои молодые годы, девушка сразу почувствовала, что в ее родном Екатеринбурге что-то происходит.…Из обрывков разговоров услышанных случайно, чаще всего речь шла о «Царе-батюшке», и о чехословацких частях, находящихся уже где-то под Челябинском и якобы направляющихся сюда… Хмурые, не выспавшиеся и озлобленные солдаты с красными тряпицами на груди, из мешков с песком спешно сооружали баррикады поперек центральных улиц и скверов. Красноармейские патрули все с большим сомнением и подозрением поглядывали на юную девчушку в монашеской одежде, невесть для чего снующую по центральным улицам города, с жестянкой для подаяний…
…С тяжелым сердцем, Катенька бросила последний взгляд на небольшой особнячок, стоящий среди фруктового сада почти на самом берегу реки Исеть…Особнячок, где она родилась, прожила почти шестнадцать лет и откуда добровольно, повинуясь необъяснимому порыву, ушла в монастырскую обитель…
Впрочем, никто девушку в особнячке этом не ждал: родители выехали из России еще в прошлом году, а сейчас в доме этом расположилась какая-то хитрая контора, с мудреным длинным, трудночитаемым названием:
« Революционный комитет при Екатеринбургском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов»…
Легко перекрестившись и поклонившись родительскому дому, Катерина направилась вон из города по пыльному, истоптанному тысячами каторжанских ног, печально известному Сибирскому тракту.
3.
С южной стороны города, природа казалось, сама позаботилась об обороне: столетние сосны и ели, поваленные прошлогодним, осенним ураганом, падая, превратили некогда чистый и светлый лес в непроходимую чащу, ну а сам тракт преграждала высокая стена из мешков с песком.
Рядом с баррикадой, сияя стеклами и черными полированными боками, стоял «Панар-левассер», автомобиль старшего сына купца Харитонова. Но сейчас в нем, на его обитых бархатом подушках, вместо бесшабашного молодого человека, любимца всех Екатеринбургских дам за тридцать, сидело четверо мужиков в черных кожаных одежах.
Не дожидаясь лишних расспросов со стороны красноармейцев, послушница сошла с тракта и по чуть заметной тропке углубилась в лес.
…Господи, до чего же хорош был лес в это летнее утро!
Лучи не жаркого пока еще солнца, увязнув в блеклом, прохладном тумане, слоями плавающим над резной, ажурной зеленью папоротников, создавали необычайно странную иллюзию всеобщего, чуть заметного беззвучного движения. Катерине казалось, что и стройные, шершавые стволы корабельных сосен, и гладкие, пестрые в своем черно-белом одеянии березы и мягкая, измятая ливнями зелень подлеска, все, абсолютно все кружится в чуть слышных ритмах старинного вальса. Да, да именно вальса…Девушка вспомнила как она в роскошном платье, с высоким декольте и в ажурных белых перчатках, впервые с молодым человеком, вальсировала в зале Екатеринбургского горного института на Рождественском балу 1916 года. Ее кавалер, будущий горный инженер, необычайно конфузился и густо краснел, когда его рука случайно дотрагивалась до Катиной спины или плеча…Милый мальчик.…Как же его звали? Вроде бы Мишель.…Ну да, именно, Мишенька Яблонский.…Именно так он ей представился…Смешно… Интересно, где ты сейчас Мишенька Яблонский? А музыка!? Что же тогда звучало? Да, да,…Несомненно.…Именно «Вальс – фантазия» Глинки.…Именно вальс.
Катерина не удержалась и, сделав реверанс несуществующему кавалеру, закружилась в танце, подчиняясь мелодии ясно звучащей в ее памяти.…И пусть ее ладошка покоилась лишь на воображаемом плече воображаемого молодого человека, и ее монашеское облачение меньше всего подходило для такого танца как вальс, но все равно в эти короткие мгновения эта девочка была по-настоящему счастлива. Как бывают, счастливы только дети или блаженные…
Остановившись на перекрестке двух тропинок, Катя рассмеялась, покраснела, и быстро оглядевшись по сторонам, старательно перекрестилась…
-Да что же это со мной происходит, прости Господи? – прошептала озабоченно девушка, но вдруг фыркнула, и весело рассмеявшись, вновь закружилась в танце…
…С заросшей кедром и сосной невысокой, но крутой горы, перед пораженной послушницей открылся необычайно красивый и величественный вид. Внизу, утопая в зелени тайги, крупными слюдянистыми чешуйками поблескивали озера. Тонкими извилистыми нитями желтели проселочные дороги, уползающие куда-то к подножию голубовато-прозрачных Уральских гор. Утреннее, выспавшееся солнце на пару с теплым ветром, дующим с постоянным упорством, скоро разметали остатки утреннего тумана. Дышалось отрадно и свободно.
-Господи!- Вскричала удивленно девушка, сорвав с головы черный платок.
— Да неужели всей этой красоты мало людям!? Что же им не хватает!? Денег? Власти? Счастья? Да вот же оно, счастье, прямо под ногами.…Берите! Все берите! Здесь на всех хватит!
Катерина как была простоволосая, так и ринулась вниз по извилистой тропке, быстро перебирая сильными ногами.… Туда, вниз, круто вниз и в лево, где ей показалось присутствие большого села, по крайней мере, церквушку с голубой луковкой купола она видела совершенно отчетливо.
…Катя ошиблась.
До села она в этот день так и не добралась.
И что помешало ей в этом? Да кто ж его знает.…То ли городское воспитание, когда все очевидное и простое для сельского жителя, кажется совсем иным для горожанина. То ли удивительная прозрачность воздуха над Каменным поясом, когда далекое кажется близким. То ли восторженное, возбужденное состояние души, навеянное той большой, благородной целью ради которой она, совсем еще юная послушница покинула обитель…. Одному Богу известно, отчего так произошло, но было уже далеко за полдень, даже скорее ближе к вечеру, когда девушка, уставшая и проголодавшая осознала, что она окончательно заблудилась. И ей уже не отыскать сегодня не только села увиденного с горы, но и даже тропинка по которой она так весело бежала в первое время куда-то исчезла, потерялась, уступив место упруго-мягкому мху пересохшего болота.
Растерянно покружив среди чахлых, тонких и горбатеньких берез и невесть когда высохших на корню елей, с голыми кронами и ошметками побелевшей, пересушенной тины на нижних ветках, Катя наткнулась на большой и плоский гранитный валун, слегка возвышающийся над зарослями клюквы и брусники.
Разложив на теплой шероховатой поверхности валуна чистый платок, девушка пообедала яйцами, сваренными вкрутую, свежим зеленым, увядшим луком и картошкой отваренной в шинелях.…Посетовав, что нет чая, превозмогая брезгливость, девушка напилась через сложенную вдвое марлицу студеной, желтоватой, отдающей болотом воды, обнаруженной неподалеку, в небольшой лужице.
Перекрестившись, девушка стряхнула с платка хлебные крошки, разулась и, подложив под голову небольшую свою котомку, закрыла глаза.
Сквозь прикрытые веки, мешая послушнице отдыхать, просвечивало солнышко, по — вечернему снисходительное и теплое, да и надоедливое комарье своим плаксивым писком также отгоняло сон, но усталость брала свое, и Катерина мало-помалу все ж таки уснула, свернувшись калачиком и подложив под щеку ладошку.
Пустая жестянка с маленьким замочком и прорезью на верхней крышке, так и не отягощенная ни единой копеечкой, стояла рядом, отражая свет угасающего светила…
Над Уралом тихо и беззвучно опускалась ночь…
4.
…Всю ночь снился послушнице молодой студент Михаил Яблонский. Его неловкие, но жадные руки, его длинные пальцы все настойчивее и настойчивее блуждали по телу Катеньки, неумело и грубо расстегивая перламутр многочисленных пуговиц и разрывая шелк девичьих подвязок. Уже ослабевшая от сопротивления Катенька, безнадежно хватаясь за обитые голубым, холодным шелком стены, безвольно и неправдоподобно долго падала на грубую шерсть офицерской шинели, отчего-то брошенную на пол, как в будуар, в клубах пара и снега вошла старая игуменья Елизавета Петровна, с дамским седлом в руках, и почему-то у именно у Катеньки, почти распятой под телом студента, поинтересовалась простуженным, грубым голосом.
— Товарищ Юровский. Там в машине, еще две черепушки с японской кислотой остались. Их-то куда?
…И плоский камень, и монашеские одежды послушницы потемнели от обильной росы. Было отчаянно прохладно. Катя, вскинула уж было руку, помолиться за-ради спасения от снов подобных, мерзопакостных, как вдруг, совершенно отчетливо услышала невдалеке шум мотора автомобиля и недовольный голос невидимого в плотном тумане мужчины, должно быть того самого, неведомого Юровского.
— Куда? Куда.…Да все туда же…в яму. Тебе сказано было: — « Во исполнение постановления Уральского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов…», что бы от них значит, от этих кровопивцев трудового народа и следа не осталось.…Уяснил?
— Уяснил то я, уяснил…-
Пробурчал другой, более низкий, чем у Юровского голос и закашлялся занудным, глубоким кашлем курильщика.
— …Ну, Николашка с немкой своей допустим и впрямь кровопийцы…Хрен бы с ними.…Но пацаненок или положим девчонки, сестры евоные…Они — то в чем виноватые? Или вот доктор тот же самый…Он, каким боком в кровопийцы попал?
— Боткину кстати предлагали покинуть дом до исполнения приговора. Я лично предлагал.…Так что чего уж теперь.…Да и не твое это дело, товарищ Ваганов. Не твое.… Иди уж, поторопи лучше своих людей.…Светает уже…Пора закругляться…
…Прикусив губу, девушка, чуть слышно ступая по мшистой подушке, подошла совсем близко разлапистой, наклонной ели, рядом с которой чуть слышно урчал автомобиль, в кузове которого виднелись брошенные лопаты и кирки. Приподнявшись на цыпочки, Катя уцепилась за толстую еловую ветвь, подтянулась и, пригнувшись, умостилась на ней.
И машина и перемазанные землею солдаты, устало курившие возле свежее закопанных ям, все, все это отчего-то вызывало в душе девушки необъяснимое чувство страха, животного ужаса…Ей хотелось разжать пальцы, спрыгнуть с ели и бежать куда угодно, но только бежать. Прочь от этих людей, объединенных чем-то ужасным и непоправимым.…И она бы побежала, но чувство жуткой уверенности в том, что бег ее будет совсем недолог, и прервется он, надо полагать от равнодушного выстрела в спину удержал Катю…
…Машина вместе с людьми уже давно уехала вверх по Старой Коптяковской дороге, уже давно растаял шум ее мотора, растворившись в лесных шорохах и щебетаниях утренних птах, а Катя все продолжала сидеть на ветке, крепко обняв руками прохладный, липкий от смолы ствол этой ели…
…Впрочем, полюбопытствуй, кто от нечего делать, поинтересуйся у девицы: мол, зачем ты Катерина залезла сюда, отчего не убежала прочь, как только заслышала мужские голоса? Так и не ответит послушница на вопросы эти простые, нет, не ответит.… Разве что плечиком девичьим шевельнет недоуменно, да покраснеет не вовремя…
5.
Часа через три, когда солнце уже достаточно прогрело и лес, и пыль на извилистой дороге, не оставив от утренних рос даже и воспоминания, Катя наконец-то вышла к селу. Вернее не к селу, а к довольно большому поселению старообрядцев, к староверческому хутору. Брошенному. Оставленному людьми.
Обойдя несколько пустых, крепких пятистенков и заглядывая в окна и распахнутые калитки, у послушницы сложилось странное впечатление о некой театральности, показушности, ухода жителей из этого хутора. Уж больно чистые избы показались любопытной девушке, уж слишком аккуратно лежали и висели вдоль оштукатуренных саманом стен коровников и стаек нехитрые мужицкие инструменты: вилы, деревянные грабли, лопаты и косы. Вырвав в одном из огородов несколько крутобоких, желто-белесых реп, девчушка подзакусила, сидя в прохладной тени добротного колодезного сруба.
Она бы и ополоснулась там же, у колодца, благо вода в ведре, старательно окованном толстыми металлическими полосами, согрелось на солнце, но странное ощущение смущало Катеньку. Она не знала, отчего и почему, но ей определенно казалось, что кто-то наблюдает за ней из плотного сумеречного леса, обступившего хутор. И чувство это пугало и раздражало послушницу. Хотя если быть до конца откровенной, не только и не столько брошенное селу пугало девушку, как те невесть, зачем вырытые, а после чего наспех зарытые ямы у насыпи заброшенной Старой Коптяковской дороги. Необъяснимый страх гнал девушку все дальше и дальше от этого гиблого места, но в мыслях своих она постоянно возвращалась туда. Что-то паскудно-стыдное, чувствовалось в действиях этих красноармейцах, что-то невозможно-неправильное, но вот что именно и отчего так муторно было на душе у Катеньки все последующее время после того памятного утра, после той старой, наклонной, замшелой ели…
…Чем ближе подходила Катерина к Челябинску, тем отчетливее менялся лес окружающий ее. Уже почти не встречались ей высокие кедры с ровными, как мачты стволами и горделиво распахнутыми кронами, все реже и реже темнели треугольные ели, молчаливые и равнодушные.
Леса Южного Урала отличаются светом и чистотой. Иной раз глянешь на сосновый лес, рядами взбирающийся на невысокие хребты и шиханы, и не верится что к его посадке и планировки непричастен человек, толковый и умный лесничий.
…Уже стало вечереть и Катю все чаще и чаще стали посещать тревожные мысли о тщетности и безнадежности ее путешествия. Возле высокого муравейника, на мшистом осколке красного гранита торчащего из мягкой хвойной подстилки гигантским зубом давно вымершего чудовища девушка решила передохнуть и собраться с мыслями.
Оседлав глыбу, послушница сняла с головы черный платок, широкий кожаный ремень с талии и сбросила с усталых ног пыльные ботинки «Нариман» на высокой шнуровке.
Уставшие ступни тотчас же заныли сладостной и глубоко уходящей в икры болью. Золотистые лучи вечернего солнца искоса падали на муравьиную кучу, вызывая в мурашином царстве веселый переполох. Катенька облокотилась на камень и с улыбкой долго наблюдала, как крупные лесные муравьи без устали что-то подправляют и ремонтируют в своем жилище. Девушка почти было задремала, как странное ощущение чего-то излишнего в этой окружающей ее лесной, умиротворенной действительности, возбудило в ее сердце непонятную тревогу, и даже страх. Послушница внимательно осмотрелась, спрыгнула с камня, и колко поджав пальчики, прошлась округ полянки. И уже обуваясь, она поняла, что так потревожило ее. Запах дорогого табака отчетливо чувствовался среди иных, мирных и столь естественных для соснового бора.
Послушница заметалась, спешно натягивая на себя монашескую рясу, и как была расхристана и неубрана, зажав в руках платок и кожаный пояс, ринулась прочь с гостеприимной полянки.
…- И куда ж ты так спешишь, роднуля?- нараспев проговорил вышедший из-за кустов лесной вишни, высокий чернявый мужик в фуражке с надтреснутым лакированным козырьком. Его черные свалявшиеся волосы из-под козырька пузырились неприбранным казачьим вихром, а тусклая желтая фикса среди ощерявшихся верхних зубов завораживали глаз девушки не хуже нагана, рифленая рукоятка которого виднелась из растянутого кармана мятого офицерского френча.
На левой руке его, согнутой калачиком болталась шинель, лохматая и грязная.
Катя, в ужасе широко раскрыв глаза, отступила назад и тут же почувствовала, как на ее плечо легла тяжелая мужская рука.
— А вот и не слиняешь, сестренка! – услышала она за спиной злорадный хохоток, и тяжелое дыхание второго человека парализовало всю ее натуру. Тот, который был в фуражке, легко подхватил безвольно опускающуюся в траву девушку и отнес ее на камень, тот самый, на котором она совсем еще недавно столь безмятежно отдыхала.
— Ну и как мы поступим с нашей дамой?- проговорил подошедший мужчина, много ниже ростом, чем первый, но гораздо плотнее его, да и, пожалуй, постарше. Его влажные полные губы, казалось бы, улыбались, но Катеньке казалось, что шевельнись она невольно и кинется он на нее голодным оборотнем, отрывая куски живой еще плоти.
-В орлянку разыграем или на спичках?- Он прошелся по ее волосам короткополой, пропахшей табаком ладонью, и снизу вверх зло и настырно посмотрел на своего товарища. Юную послушницу трясло от страха и она, прикрыв глаза, запричитала первую пришедшую ей на ум молитву:
« Отче наш, иже еси на небесях, да светится имя твое, да…»
Мужчины, казалось, не обращая больше внимания на молящуюся девушку, присели рядом с валуном и закурили, неспешно выбирая длинные папиросы из цветастой пачки с золотистой надписью «Дюшесъ №30».
Сладкий запах табака казалось разбудил послушницу и она привстав на колени взмолилась сквозь слезы разглядывая мужиков.
— Дядечки, миленькие. Отпустите вы меня пожалуйста. Нет у меня ничего с собой. Ей Богу даже грошика за душой нет. Ничего еще не успела вымолить.…Отпустите.…А я за вас в Лавре свечи поставлю, и всю жизнь за вас молится, буду…
…- Эх, милая.- Проговорил весело высокий, и щелчком далеко от себя отбросил недокуренную папиросу.
— Да на кой ляд нам твои молитвы, когда товарищ Ленин на каком-то там съезде всенародно объявил, что Бога то и нет вовсе…Фантазия, дескать, и поповские байки…
Они рассмеялись, а коренастый из наплечного мешка прямо на траву начал выкладывать продукты. Дружки явно собирались перекусить…
— Ты милая лучше не переживай особливо, покушай с нами, а уж потом, не обессудь, решай, под кого первого ляжешь. Под меня (кстати матка меня Гришкой прозвала), или вот под товарища Охлобыстина? Ты не смотри, что он маленький такой, он, коренастый. В корень, стало быть, пошел, товарищ наш Охлобыстин…
Они снова расхохотались, но смех Охлобыстина звучал зло и наигранно. Шутки Григория ему явно пришлись не по вкусу…
…- Я. Я не хочу кушать…Я не буду с вами кушать…- пролепетала Катя, съежившись на камне.
— А и ладно…- легко согласился длинный.
— Какая любовь на полный желудок? Так, отрыжка одна.Да и нам больше достанется.
Он налил остро пахнувшего самогона из литровой бутыли в граненые стаканы (предварительно выдохнув из них невидимые соринки), себе и товарищу, и острым ножом раскромсал пару больших огурцов — переростков.
— Дрянь огурцы!- выдохнул он, отбросив огуречную жопку в траву и захрустел наскоро очищенной луковицей.
— Нормальные огурцы, даже и не горькие…
Возразил Охлобыстин и снова потянулся к самогону.
— Эх, паря, что ты можешь в этом понимать…
Протянул Григорий.
— Видел бы ты, какие огурцы были у моего бати,…Что б он был здоров, прохиндей.…В самый Париж подводами возил. Да и не раз, не два, а раз пять за сезон оборачивался…
— Он у меня в управляющих в поместье у барина числился…
Обращаясь отчего-то к послушнице, проговорил он понизив голос.
— В какой Париж? – зло ощерился коренастый вытирая слезу выступившую от самогона. – Да они бы у него повяли…Гадом буду, повяли бы…
— Нет… – Долговязый лег на живот, поправив мешающий наган в кармане.
— Он кажный огурчик иголками натыкал, а после – в бочку с родниковой водой укладывал.…Так и перевозил.…И огурцы свежие оставались и вес мало-мало прибавлялся…
— А где ж твой папаша? Никак товарищи расстреляли?- У Охлобыстина покраснели глаза, и язык заметно начался заплетаться.
— Отчего ж непременно расстреляли?- возразил нехотя Григорий, оценивающе поглядывая на девушку…
— Он сука, как почувствовал, чем дело пахнет, так с последним обозом там и остался.…И меня и мать мою здесь бросил. Гад. И барина своего тоже кинул.…Хотя вот уж кому тогда не до папаши моего дело было, так это барину нашему…Его уже через месяц после переворота взяли…Шлепнули должно быть…Я так думаю…Впрочем я этого точно знать не могу. Я из имения еще раньше убрался.…Береженого Бог бережет, а не береженного конвой стережет…
Он хохотнул и потянулся к папиросам.
…Они снова выпили и закурили. В стремительно надвигающимся вечере, в пряном, настоянном на разнотравье, и дикой мяте, воздухе, отчетливо пахло табаком, и плохо прикрытой мужицкой враждой…
— Ладно, Гришаня. – Пробурчал Охлобыстин, упаковывая в мешок остатки водки и закуски.
— Перекусили, пора и за основное блюдо приниматься.…И так уже скоро роса выпадет. Страсть как не люблю по сырой траве елозить…
Он приподнялся, и двинулся было к Кате. Та, вдруг, с неожиданной силой оттолкнулась от пьяненького мужика ногами и, слетев с валуна, помчалась к темнеющему рядом лесу.
— Ох, блядина!- хрюкнул опрокинувшийся на спину Охлобыстин, а девушка не разбирая дороги, мчалась уже по зарослям папоротника и черники, зайцем петляя среди чернеющих стволов.
— Держи, держи суку!- услышала она чей-то крик позади себя, и тут заметив с корнем вывороченную поваленную сосну, юркнула в темную, остро пахнувшую муравьиным уксусом и сырым песком нору.
Мимо нее, вжавшуюся в землю всем телом, прошуршали чьи-то осторожные шаги, и вдруг совсем рядом с собой она услышала два громких, страшно громких выстрела…
— Ох, и гад же ты Гришаня…
Отчаянно больно, на предсмертном надо полагать выдохе выдавил из себя невидимый Катериной коренастый, и над лесом повисла звенящая тишина.
Послушница в ужасе потопила собственный крик, судорожно забив рот монашеским, грубой ткани платком и словно в детстве крепко, крепко зажмурилась. Казалось, тресни поблизости ветка, шевельнись былинка какая под тяжестью холодной росинки, и она не выдержит, закричит, изойдет на вопль и визг, столь велик был страх перед этими незнакомыми ей людьми, страх, до последней клеточки пропитавший все ее девичье естество…
…Сколько просидела в этой прохладной воронке с влажными податливо — песчаными стенками, пять минут или целую вечность Катерина не знала? Но то, что Бог по той или иной причине отчего-то отвернулся, забыл про грешную и недостойную дочь свою, она поняла сразу, как только попыталась приподняться и оглядеться вокруг….
— Ну, наконец-то…- услышала она рядом с собой язвительный смешок Григория и только сейчас заметила его, сидящего на поваленном дереве.
— Я уж думал, ты там уснула.…Ан нет…
Он снова рассмеялся, схватил послушницу за руку и с силой вытащил, выдернул ее из норы.
Потом закурил и словно нехотя, до обидного небрежно и спокойно овладел девушкой.
Катерина, впервые почувствовав в себе мужчину, дернулась было, но тот, выдохнув ей в лицо табачным дымом, проговорил, не выплевывая даже папиросу.
— Не трепыхайся, милая…Больнее будет.…Я знаю…
6.
В лиловом, утреннем небе еще болталась круглая, полупрозрачная луна, когда Григорий, разбудил истерзанную, раздавленную, уничтоженную Катерину.
— Вставай мамзель, вставай.
Хитрым узлом связанная, тонкая и прочная веревка стреножила толком еще не очнувшуюся девушку.
— Пора уходить отсюда.…Слышь, стреляют недалече. Верст пять будет, не больше…Мне, если честно ни с красными, ни с белыми, ни с еще какими встречаться что-то уж больно не хочется.…Не по пути мне ни с теми, ни с другими.…К херам собачьим эту политику…»Паны дерутся — чубы летят»…Так что хорош спать, вставай, как там тебя?
— Катя. – Девушка поднялась, как смогла, причесалась, оправилась, и с трудом передвигая спутанными ногами, двинулась вслед за мужиком.
— …А тот, который Охлобыстин…вы его что, убили?
— Да пес с ним. – Проговорил насильник не оборачиваясь.
-…Было и нет,…Он если честно, то и слова доброго не стоил…Гнида. Я давно уже подумывал с ним разбежаться, да все предлог приличный не находился.…А тут ты подвернулась…
Он закурил, и уже казалось, не обращая больше внимания на послушницу, направился по тропинке, ведущей к небольшой речке, с севера огибающей поляну.
… «За рекой Ляохэ загорались огни,
Грозно пушки в ночи грохотали,
Сотни храбрых орлов
Из казачьих полков
На Инкоу в набег поскакали».
Сквозь равнодушный шорох высокого осота, потревоженного широким шагом Григория, услышалось Катерине.
Тучи комаров, из помятой травы облепили девушку и та, на миг, забыв и про ночное надругательство над собой, и про убийство Охлобыстина, отчаянно отмахиваясь ольховой веткой от нудных насекомых, поспешила вслед за мужиком.
— Ты не грусти Катюха,- Долговязый обернулся и, оглядев искусанную комарьем девушку снисходительно улыбнулся.
— Недельку, от силы две я тобой еще попользуюсь, а потом глядишь и отпущу.…По натуре я мужик не злобливый. Можно сказать что и добрый…
-Правда отпустишь?- усомнилась послушница приостонавливаясь.
— А то.…Вот за Златоустье добредем, а там у меня в казачьей станице, что возле самого Таганая, сродственники… Братовья да свояки…Хорошие мужики.…А вот с бабами в селе, напротив полный напряг…все какие-то кочерыжки коротконогие.…Я так полагаю что в основном татарки – полукровки.… А ты другая. Ты красивая.…Из благородных, небось?
— Из них… Mademoiselle Voropaeva. Генерал-губернатора дочь. – Уронила Катя и расплакалась…
— Хотя какая я теперь mademoiselle? Так…Подстилка не поймешь чья.…Без имени и фамилии.
— Как чья?
Григорий приостановился и, дождавшись, когда Катерина подойдет к нему, осклабился, запустил руку ей под одежды. Между ног.
— Моя ты подстилка, моя покамест…
Григорий выудил ладонь у нее из-под рясы, понюхал, и небрежно выдав девушке пощечину, вновь зашагал по извилистой тропке, чуть заметной среди нагромождений разнокалиберных валунов и широких сбрызнутых росой лопухов.
«…Пробиралися там день и ночь казаки,
Одолели и горы и степи.
Вдруг вдали, у реки,
Засверкали штыки,
Это были японские цепи»…
7.
…Уже больше двух недель пробирались Катерина и Григорий по лишь ему известным тропам, шли в неведомое доселе девушке Златоустье. Иногда, на их пути вырисовывались деревенька или небольшое сельцо, но Григорий обычно только завидев ближайшие избы, тут же круто забирал в лес. В такие дни, он становился необычайно хмур, и неразговорчив, и лишь бесконечная песня о геройствах казаков на японской войне хоть как-то разряжала гнетущую тишину.
«… И без страха отряд поскакал на врага,
На кровавую страшную битву,
И урядник из рук
Пику выронил вдруг:
Удалецкое сердце пробито»….
Котомка с припасами Григория уже давно опустела и лишь благодаря тому, что зверье вокруг было непуганым, а стрелком он был хорошим, голод путешественникам не грозил, хотя первое время Катерину и мучило отсутствие хлеба в ее рационе.
На каждом привале, Григорий во все той же странной, с ленцой манере насиловал девушку, молча и отрешенно, иногда и по несколько раз. Обычно послушница сносила близость, молча, закрыв глаза и закусив губу, в молитвах и мыслях своих, желая мужику всяческих напастей – по опыту зная, что за любое даже пусть и незначительное оскорбление, сказанное вслух, будет бита. Бита больно, обидно, по лицу.…Но с каждым днем, с каждой их близостью, молитвы ее становились все короче, а напасти рождаемые в ее голове, все безобиднее.… К самому же мужику, к Григорию, Катерина (хоть это и казалось для нее самой и необъяснимым), начала относиться если и не хорошо, то хотя бы со странной смесью уважения и благожелательности, иной раз, принимая эти свои чувства за истинное христианское всепрощение…
И вот, как-то под вечер, почти у самого подступа к Таганаю, когда ее, чистую и уставшую после купания в холодной родниковой речке, коих здесь встречалось в превеликом множестве, Григорий вновь рывком подложил под себя, она неожиданно для себя самой, сладостно и протяжно застонав, обхватила его сильное тело руками и ногами, и впервые отдалась ему. Отдалась ему вся, целиком и без остатка, без оглядки на прошлое и без радужных фантазий о будущем…
— Ну, вот и славно. Ну, вот и ладушки.- Смеясь, проговорил Григорий, целуя ее в шею и искусанные, кровоточащие губы.
— Наконец-то в тебе, Катенька баба проснулась…
Он разрезал веревки все еще привязанные к ее лодыжкам и сбросил обрывки в студеные струи. Минутой позже туда же полетела и порожняя жестянка для подаяний.…В эту ночь они впервые спали, обнявшись, под одной шинелью.
…- Смотри Катенька! Вот мы и пришли! – Радостно закричал Григорий, шутливо подталкивая к самому краю отвесного обрыва испуганную девушку.
— Вон они, Каменки! Я же тебе говорил, почти у самого Таганая.…Только с другой стороны.…А вон и хата братовьев моих.…Вон, под красной крышей…Большой дом, пятистенок…
Катерина переборов страх, все ж таки глянула вниз, во много сот метровую бездну, туда, куда указывал Григорий. Там, внизу, где огромные сосны казались искусно сделанными игрушками, а река- случаем позабытая темно-серая лента, и в самом деле раскинулось большое, явно зажиточное село…
— Григорий,- проговорила отступив от края обрыва Катерина. – А нельзя просто обойти Таганай кругом? Уж больно страшно…
— Обойти? Обойти оно конечно можно. Но это несколько суток лишних, да и река в этих местах уж больно глубока.…Да ты милая не боись. Знаю я несколько тропинок заветных: и не крутые и пряменькие…Ровно в парке, ей Богу не вру.…Вот сейчас перекусим, отдохнем и пойдем…Славно, что сегодня суббота (продолжил он, помолчав с минуту). В станице бани топят. Хорошо! Откровенно говоря, страсть как соскучился по нормальной бане, с горячей водой, с паром да щелоком.…Эх, девочка, ваши городские общественные бани ни в какое сравнение с деревенскими нейдут. В них даже пар по иному пахнет…Ито сказать: сама понимать должна…
Он окинул послушницу взглядом и начал готовить нехитрый обед, а та, смотрела на него, на его черные как смоль казацкие волосы, на его ловкие и сильные руки, на усы, радостно ощеренные, и тщетно пыталась разобраться в собственных чувствах…
-Странно. Как все странно… — думала она, подбрасывая до звона сухие сосновые ветки, в жаркое, почти незаметное на солнце пламя.
— Еще месяц не прошел, как я покинула обитель, матушку-игуменью, а как неожиданно поменялось все в моей жизни, да и не только в ней, но и в сознании, да и в самой моей природе. Кем я была в той, в прошлой своей жизни? Mademoiselle Voropaeva, из упрямства решившая вместо эмиграции со своими родителями, папенькой и маменькой, пойти в монастырь…Готовилась к постригу, учила молитвы и выстаивала бесконечные заутренние и вечерние службы…А кто я такая сейчас? Зрелая женщина или баба, как назвал меня Григорий…
…- Странно. Как странно.… Еще совсем недавно я желала ему страшной смерти, гиены огненной и вечной, без надежды на спасение, а сегодня, сейчас я уже называю его по имени, обнимаю его добровольно. Да что врать-то самой себе? Добровольно, всего лишь? Врешь девица! Врешь.…Да я хочу, я желаю этого.…И мне нравится с ним быть! Нравится…
…Григорий,…а ведь я страшно сказать ничего о нем не знаю: Кто он такой? Сколько ему лет? От чего он прячется по лесам? Как его фамилия, наконец?
Катерина прилегла на теплый, шершавый от шуршащих лепешек лишайника гранит, и счастливо поглядывая в высокое, бесконечно голубое небо, куда рвался прозрачный, дрожащий дымок костра, легко покусывая горечь травинки, подумала о себе самой — лениво и незлобиво:- А может быть все гораздо проще, чем я сама для себя на воображала? И ничего особенного в судьбе моей не происходило? И не было пожара в монастыре, не было никакого насилия, и убийства Охлобыстина тоже не было? А есть только лето, тайга, гора Таганай, мужик Григорий и я, Екатерина Воропаева, его баба…
Катя сонно улыбнулась и, положив ладошки под щеку (словно в детстве, ей Богу) уснула, так и не дождавшись обещанного Григорием «сейчас перекусим», подумав напоследок, впрочем, легко и необидно:- Уж не блядь ли вы, дражайшая mademoiselle Voropaeva?
… «Он упал под копыта в атаке лихой,
Кровью снег заливая горячей,
-Ты, конёк вороной,
Передай, дорогой,
Пусть не ждет понапрасну казачка
За рекой Ляохэ угасали огни,
Там Инкоу в ночи догорало.
Из набега назад
Возвратился отряд
Только в нём казаков было мало»…
8.
Григорий не обманул. В станице у него и в самом деле оказалось много родственников. По крайней мере, в том доме, куда он привел Катерину, весь день хлопала входная дверь — входили и выходили бесконечные сродственники: братовья, кумовья, сватовья. Деверя, снохи.…И все с семьями, и все с подношением.…С Григорием лобызались, да за ручку здоровкались, а на Катерину поглядывали с любопытством и недоумением — надо полагать монашеский наряд ее, смущал казаков.…Недолюбливало свободолюбивое и дерзкое на язык яицкое казачество духовенство, ох и недолюбливало, хотя как ни крути, а все церковные праздничные службы от начала до конца выстаивало…
Часа в четыре пополудни, Григория и Катерину, а вместе с ними и всех основных родственников пригласили к столу. Давно, ох как давно не видела девушка столь щедрого на угощенья стола. И чего только не было в тот день на тарелках да широких блюдах, тесно расставленных на трех вплотную сдвинутых столах. Одних только водок да настоек восемь видов, разлитых по высоким, четырех угольным, двухлитровым штофам. В самом центре стола хитрый графин для наливок, из шести секций, с шестью стеклянными краниками и шестью притертыми пробками – на зависть всем соседям переливается радугой. Да что графин? Обыкновенная стекляшка, да и все, но вот разносолы на столе, это да. Это как ни крути — лицо хозяев дома, а при нынешних – то, неверных временах, когда по городам говорят людишки вообще с голоду пухнут, не только лицо, но и статус, и положение, и увертливость, и умение жить, да и мало ли чего еще и…
…Время оно конечно летнее (а кто ж летом скотину режет?), ну да ничего, слава Богу, лес рядом, зверья в тайге немерено. Оттого на столах и медвежатина, и сохатина, свинина и дичь всякая: глухари да перепела – всего вдоволь. Зайчатины нет, правда, так с другой стороны рано еще зайца бить, худой он покамест, мяса не нагулял…
Да и с рыбой хозяйка дома, расстаралась от души. Тут тебе и форель речная, в огромных сковородах под сметаной зажаренная, и плоские словно доски, запеченные в листьях хрена толстогубые лини, и длинноносый осетр, рыбьей мелочью и чесноком нашпигованный на длинной резной доске красуется. Про грибы, грузди да рыжики, холодным способом соленые и говорить не к чему – какой же Урал без грибов!?
Под вечер, когда гости уже изрядно откушали, а мужики ремни свои (чтоб отдыхать да вкушать не мешали), на скамейки рядышком повесили, внесли сдобу на берестяных тисненых блюдах, пироги да расстегаи горками, разве что не трещат от жару.… Ну и под самые проводы – обязательно кисель.…Это уж конечно для уважения гостям, что бы завтра им до ветру хорошо ходилось…Молочный, ягодный, на вине красном сваренный.…Дрожит словно желе, какое…Вкусно!
Но это все позже. А сейчас большой просторный дом пятистенок полон гостей. Звон посуды, бульканье водки, табачный дым пластами над головами…Кто смеется, кто за здравие тост говорит, кто плачет под песню тоскливую. Хорошо здесь сегодня Катерине. Несмотря на шум и дым, хорошо и покойно. Девушка приняла из рук Григория высокую, хрустальной гранью играющую, рюмку (да и не первую) полную водки, темно-янтарной, на кедровых орешках настоянной. Выпила, грохнула об пол и расплакалась: счастливая и пьяная.
Но все нормально. Ни хозяин, Фрол Фомич Копейкин, ни супружница его Матрена Ильинична, ровно ничего не замечают – баба она баба и есть. Пусть поплачет, коли неймется…пусть. Это не возбраняется. Для женщины это не стыд.… Да и не слезы это в конце – то концов, а водка.…Все ж вокруг люди, все всё понимают.… Да и не до слез сейчас, не до бабьих. Фрол Фомич с Матреной Ильиничной песню зачали, да так красиво и слаженно, что мало-помалу утихли гости за столами, сидят, слушают, кто послабее носом хлюпают…
«Как за черный берег, как за черный берег
Ехали казАки,40 тысяч лошадей
И покрылся берег, и покрылся берег
Сотнями порубанных, пострелянных людей
Любо, братцы,любо
Любо, братцы жить
С нашим атаманом
Не приходится тужить
Любо, братцы,любо
Любо, братцы жить
С нашим атаманом
Не приходится тужить
А первАя пуля, а первАя пуля
А первАя пуля, братцы, ранила коня
А вторая пуля, а вторая пуля
А вторая пуля в сердце ранила меня
Любо, братцы,любо
Любо, братцы жить
С нашим атаманом
Не приходится тужить
Любо, братцы,любо
Любо, братцы жить
С нашим атаманом
Не приходится тужить
А жена поплачет, выйдет за другого
За маго товарища, забудет про меня
Жалко только волюшку да в широком полюшко
Жалко мать-старушку да буланого коня
Любо, братцы,любо
Любо, братцы жить
С нашим атаманом
Не приходится тужить
Любо, братцы,любо
Любо, братцы жить
С нашим атаманом
Не приходится тужить
Кудри мои русые, очи мои светлые
Травами,бурьяном да полынью заростут
Кости мои белые,сердце моё смелое
Коршуны да вороны по степи разнесут
Любо, братцы,любо
Любо, братцы жить
С нашим атаманом
Не приходится тужить
Любо, братцы,любо
Любо, братцы жить
С нашим атаманом
Не приходится тужить»…
Окончилась песня. Опять за столом оживление, разговоры и табачный дым.
Катерина, держась за стены, по-городскому оклеенным обоями, прошла за спинами гостей и вышла на воздух, на высокое резное крыльцо с точеными балясинами и дверью с тяжелым кованым кольцом. Сплохело с непривычки. Еле-еле успела за дом, за какой-то приземистый сарайчик забежать, как приступ тяжелой рвоты, казалось, все ее существо вывернул наизнанку, располовинил. Не помог хозяйский киселек, не спас…
…Очнулась девушка в полной темноте, на полу. Где-то под половой доской скреблась мышь и глухо, словно издалека, раздавались звуки все еще продолжающегося застолья.
Темнота пахла пылью, сухой травой, кислой овчиной и мышами. Но сильнее всего пахло медом. Казалось что все вокруг насквозь, на долгие времена пропахло им – и стены, и полы и невидимые брусья перекрытий крыши…Девушка с трудом приподнялась и неловко уперевшись рукой на что-то неверное, чуть было не опрокинулась . Вдоль стен стояли какие-то ящики, от них-то и исходил этот приторно-тягучий запах меда.
— Похоже что это ульи…- Решила послушница и на ощупь двинулась к двери. Она не ошиблась, это и в самом деле были поставленные один на другой улья – рачительный Фрол Фомич летом составлял сюда ульи, требующие починки. Кстати сказать, на зиму ульи вместе с пчелиными семьями выставлялись сюда же. Только к другой, более теплой стене. Оттого этот сарай и назывался зимником или омшаником, как иной раз говаривали старики.
Выйдя из омшаника, девушка обессилено опустилась на шершавую, влажную росою доску низкой завалинки, идущей по периметру зимника. Закат уже, по-видимому, давно выдохся, и по небу шарахались лишь дрожащие отблески далеких, неслышных здесь гроз – зарницы.
На ближайшем лопухе, Катя с удивленьем, обнаружила маленькое светящееся чудо – светлячка. Червячок лежал на шероховатой поверхности и светился ровным, необычайно красивым в ночи зеленоватым светом.
— Ох, ты! – только и смогла произнести пораженная девушка и тут же, ноготком скатила светлячка себе на ладошку. Он и на ладони светился все также ровно и прохладно, освещая неведомые послушнице линии жизни и венерины бугры.
-Чудо! Ты просто прелесть! Шарман! – шептала в восторге Катерина, и разве что не целовала светлячка от того сразу и не заметила двух человек, стоящих возле черного на фоне неба штакетника. Правда людей этих, Григория и Фрола Копейкина, по голосу, по своеобразному плавному говору, Катерина распознала сразу и от того стала прислушиваться еще более тщательно.
9.
-…Ну что, Фрол, твой-то старший, все еще у большевиков, в Златоусте отирается?
— Ох, Гришка, стыдоба-то, какая,- как-то жалко, по-бабьи запричитал Копейкин.
— Станишникам в глаза смотреть больно. Совестно. Старший сын есаула и вдруг чекист…
— Дурак ты Фрол. Всегда дураком был! – жестко проговорил Григорий и закурил, судя по сладковатому дыму, закурил свои любимые папиросы «Дюшесъ».
— Это же просто бешеная удача, что им потребовался инструктор-проводник. Пойми ты, дурья твоя голова, что они пришли навсегда. Да-да, именно навсегда. Слышал, в Екатеринбурге Николашку с семьей грохнули? Чехи к ним переметнулись.…Почти весь Южный Урал под себя подмяли…Я Фрол, пока к тебе пробирался, почти в каждой деревне флаги красные видел, у сельсоветов развешанные. Оттого-то и вынужден был по лесам идти, в круговую.…Так-то вот.…Скажи спасибо, что до твоих Каменок дорога-черт ногу сломит, а то бы комиссары уже давно сюда заявились.…Хотя, что толку радоваться, не сегодня, так завтра все равно придут.…А ты совестно, совестно…Сынок твой, теперь для тебя почитай как охранная грамота.…Всех брать будут, а тебя в последнюю очередь…
Мужики помолчали, и Катерина уже было собралась к ним подойти, как Григорий вновь заговорил.
— Ты Фрол девицу, что со мной пришла, заметил?
— Хороша девка, хоть и монашка.… Да кажись она не из деревенских будет?
— Эх ты, братку, куда хватил — из деревенских.…Эта монашка, между прочим, единственное чадо Генерал-губернатора Воропаева Владимира Александровича.…Сам-то он с супругой своей, небось, давно уже где-нибудь в Констанце отдыхает, а она из принципу или еще, почему, решила не эмигрировать, пошла в монастырь, в послушницы…
Я как увидел ее. Так и решил за племеша своего, сына значит твоего старшего отдать…Красные красными, да в жизни все приключиться может. Вдруг, да и вернется все вспять, вот тогда-то сынок твой перед господами Воропаевыми и замолвит за нас словечко…Он как, сын-то твой, не оженился пока еще?
— Нет покамест…- буркнул Фрол Копейкин и, помедлив, спросил:-
— А ты как, Гриша, спишь, что ли с монашкой, али как?
— Да кабы я с нею не спал, Фрол, с какого хрена она в эту глушь бы добровольно пошла? Пришлось…
Он рассмеялся и уже в более веселых красках рассказал брату как ради того, что бы девчонка эта к мужику вкус почувствовала, был вынужден иной раз дважды на одну сопку забираться, время растягивать…
— Да не переживай, Фролушка,- приобнял Григорий своего брата за плечи.
— На всех хватит, не изотрется, поди. Хватит и мне, и племяшу моему, да и тебе, коли захочешь…Она, я видел, сегодня перебрала чуток.…Поищи, твоя будет…
— …Нет, Григорий, благодарствую.…Да ведь венчанный я.…А вот для сына мово, девчонка и в самом деле подойдет. Хороша. В бедрах правда худовата, рожать будет трудно, ан ничего, образуется.…Только вот я тебя знаю, ты никогда ничего за так не делал. Даже в детстве.…Признавайся, на что Катьку сменять надумал?
— Мне Фрол, бумаги нужны. Чистые бумаги,…что бы ни одна сука ничего не заподозрила.… Слинять я хочу из Россеи. Ох, как хочу.…Отца своего мне отыскать ох как надобно…Я ему в свое время золотого песка чуть ли не с пуд отдал на хранение.…А когда я узнал, что он не вернулся, то сразу скумекал: пристроил он мое золотишко. Я братишка тоже хочу по Парижам погулять, во фраках да с тросточкой.…А в России в сторонке отсидеться не получится. Тут либо с красными дружбу води, либо Колчаку присягу давай.…А мне это надо? Хватит, навоевался.…Я в японскую у Ляохэ, сотню свою полностью положил, сам еле выжил, а мне за это два креста на грудь прикрутили и сотенную на пропой отсуропили.…Надо полагать рублишко за человечка.…За казака, ты слышишь Фрол? Рубль…Сотню-то я честно пропил, а вот воевать что-то охота совсем прошла.… Так что милый, без бумаг мне никуда.… Вот тут-то сын твой мне и пригодится.…А если мало девки будет, я ему золото приличное покажу.… Прямо наружу просится.…И отсюда недалече…
Они снова закурили и не спеша направились к дому…
10.
…Летом на Урале светает рано.…Еще три часа пополуночи не отбили большие напольные часы в доме Фрола Копейкина, а на дворе уже хоть газету читай. Небо и не голубое, и не синее, а какое-то блекло-серое, ровно войлок полинялый. Над проплешинами тайги, полянами, словно дымы заводские туман поднимается, а горы кажутся хмурыми и неприветливыми. Росы выпадают такие обильные, что травы к земле, словно во время дождя клонятся.…А тихо — то как! Где-то на озере, верст за пять чайка голодная проскрипит, а кажется что вот она, прямо над тобой…Урал…
Словно побитая, с трудом и стоном поднялась Катерина с завалинки и на тяжелых ногах направилась к дому. Светлячок забытый, на землю упал да тут же под каблуком девушки и лопнул. Только слизь зеленоватая брызнула.
В горнице гостей уже не было, лишь утомленная хозяйка гремела посудой где-то на кухне, да два брата, Григорий да Фрол сидели на углу стола, под образами и пили водку, устало и бесцельно.
— А вот и Катенька наша появилась…- Протянул Григорий и попытался подняться навстречу девушке.
— Сиди уж.- Проговорила она и, прихватив с блюда большой серебряной вилкой сопливый, уже почерневший на вольном воздухе груздь, налила себе стопку горькой.
— Вот молодец! Настоящая казачка! – С трудом выговаривая слова, похвалил ее Фрол и упал головой на стол.
— Что Гришенька, надоела тебе Воропаева дочь? В Париж захотел? А ты не подумал, казачок ты мой разлюбезный, что дочь Генерал-губернатора тебе в заграницах может быть даже более полезной, чем твой пуд золота? А?
— Ты! – вскричал разом протрезвевший казак. – Ты что, подслушивала сука!?
— Да пошел ты, хам…- девушка бросила пустую рюмку на стол и, развернувшись, направилась к двери.
— А ну стоять, мать твою!- закричал Григорий и, опрокинув стол, бросился вслед за ней, безуспешно пытаясь вырвать из кармана наган.
Катерина не дожидаясь выстрела, выскочила из избы и огородами побежала в сторону леса.
— Постой девка! Я кому говорю постой! – за ее спиной раздался треск кустов и злобный мужицкий мат.
Катя не разбирая дороги, забирала все дальше и глубже в лес, петляя среди сосен и кедров. И не только страх, но и непередаваемая обида, страшное омерзение несли ее все быстрее к приближающим горам.
— Ну, блядь, ты за это поплачешься.…Кровавыми слезами умоешься, как только спымаю! – раздался крик Григория совсем близко, как вдруг странный треск сухих веток и одновременно мужской громкий стон прервал его страшные угрозы.
Ничего не понимая, Катерина затравленно обернулась, но ничего и никого не увидела, лишь метрах в пяти от себя чернела большая яма с остатками сухостоя, разбросанного над ней.
Девушка, недоверчиво вытягивая шею, подошла к яме. На дне ее, лежал, странно раскорячившись с белым, как магнезия лицом Григорий. Из штанов, как раз там, где была ширинка, ужасающий в своей неправдоподобности торчал остро заточенный, окровавленный деревянный кол. Второй, точно такой же прошил правую грудь казака. Еще несколько кольев торчало чуть в стороне.
-Волчья яма.- Догадалась Катя и осторожно, придерживаясь за осыпающиеся стенки западни спустилась вниз.
Григорий плакал, молча и больно. Некогда красивые его губы жалобно дрожали, выдувая редкие кровавые пузыри.
— Спаси меня Катенька! Христом Богом молю, спаси…- прошептал Григорий, увидев склонившуюся над ним девушку.
— Поздно милый…- проговорила она и, заправив под задницу обремкавшуюся свою рясу присела рядом с умирающим.
— У тебя, похоже, артерия прорвана, да и легкое наверняка задето.
Я в обители своей курсы сестер милосердия закончила, так что знаю наверняка, что если тебя снять с кольев, тот час же кровью изойдешь.…Да и не под силу мне это одной сделать…Тяжелый ты мужик. Я это на себе частенько испытывала…
— Забудем старое, Катенька. Вместе уедем. На Евангелие присягну, вместе уедем.
— Никуда я с тобой не поеду, Гришенька. Неверный ты мужик. Сволочь.
Послушница переложила вилку с которой оказывается так и бежала в левую руку и оправила черные, мокрые от пота волосы на горячем лбу мужчины.
— Ведь я ж тебя полюбила. По-настоящему полюбила. Ведь ты мой первый и единственный мужчина был.…Да ты и сам знаешь что первый.…А ты меня продал. Под брата, под кузена — чекиста какие-то жалкие бумажки, за паспорт подложить собирался…Падаль.
Она вздохнула и обессилено откинулась спиной на стенку ямы.
— Вот дождусь, как подохнешь, так и уйду.
Григорий сглотнул и попросил, слезно, с дрожью.
— Девонька моя.…Пить. Пить очень хочется. Господом заклинаю, дай воды… Ведь ты же послушница. Почти монашка,…Что же ты такая,…злая? Дай воды, сволочь!
— Была монашка, да вся вышла.…А вот ты, каким был, таким и остался.…Теперь меня за глоток воды сволочью называешь.…Нет у меня воды, да если б и была, все равно не дала бы.…После твоих губ, даже святая вода и та поганой станет…
Она замолчала, прикрыла глаза и расслабилась. Сквозь веки, розовым, просвечивали первые солнечные лучи. Где-то над головой призывно посвистывали поползни. Голова кружилось от запаха грибов, сырой земли и крови…
— Нет. Только не спать…- приказала себе Воропаева и с трудом открыла уставшие глаза. Левой рукой, дрожащей и скользкой от крови, Григорий держал пистолет, старательно целясь ей в грудь.
— Дурак! – выдохнула Катя, и не задумываясь, с силой воткнула вилку в отчетливо хрустнувший кадык Григория. Тот выронил оружие и обхватил свое исковерканное горло. Минуту спустя, его, все еще красивое лицо посерело и застыло в болезненной гримасе.
— Ну, вот и все, Гриша…Конец.- Девушка небрежно перекрестилась и брезгливо морщась, полезла в карманы френча покойного.
— Это не мародерство, мой дорогой…Ты не думай.…Просто ты уже отмучился, а мне еще со всем этим оставаться здесь…Мне еще жить…
Она еще что-то говорила полушепотом, а руки ее сновали по карманам.
Папиросы и пачку керенских, она оставила в его карманах, а в свой разложенный платок увязала почти коробок спичек, кое-как обтертый наган и с десяток золотых, николаевских червонцев…
— Прощай Григорий. – Она, не оглядываясь, пошла прочь от волчьей ямы…
— Прощай. У нас с тобой, наверное, были бы очень красивые дети…
Наверняка были бы…
Катерина поправила сбившиеся волосы и мгновенье помешкав направилась вверх, на гору, по заваленной валунами просеке, по еле заметной тропе.
11.
…Катерина развесила песком простиранное, обветшалую свою одежду и вошла в воду. Озеро с необычайно прозрачной и мягкой водой наверняка подпитывалась ключами, было студеным. Но девушка, словно не замечая этого, радостно и громко фыркая, плавала вдоль заросшего тростником заливчика, на берегу которого все еще дымился ею разложенный костерок. Август подходил к концу, и без костра ночами было пронзительно холодно…
— Посмотрите Серж, какие прелестные русалки обитают в этом Богом забытом краю! — услышала она веселый мужской голос, когда уже почти подошла к берегу. С визгом, совсем как обыкновенная баба, она плюхнулась в воду стараясь спрятать от посторонних глаз обнаженное тело.
— Вы испугали ее, господин Грушевский. Ответил неведомый Серж, и Катерина наконец-то увидела, как из тростника к костру подошли два молодых офицера, в походном, защитного цвета обмундировании и при походных же погонах.
— Не бойтесь нас, прекрасная незнакомка. Ни я, ни тем более господин Вырубский вас не обидит.…И я, и господин штабс-капитан, по большому счету люди мирные, хотя и считаемся боевыми офицерами. Но человек предполагает, а Бог располагает и мы здесь, в боевой части.…Служим-с за веру и отчизну.…Но повторяюсь, мирное население не трогаем принципиально.…К тому же, судя по вашей фигурке, очертания которой прекрасно видно сквозь прозрачную воду (а на Кисегаче и в самом деле очень прозрачная вода, не так ли мадемуазель?), вы относитесь к высшему сословию.…Или я неправ?
— Вы правы, господин поручик. К высшему… – мельком глянув на погоны молодого офицера, проговорила Катя и встав во весь рост, не прикрываясь даже, пошла к ним навстречу.
Штабс-капитан Вырубский хмыкнул, пораженно хлестнул веткой ольхи по сияющему голенищу сапога и повернулся к купальщице спиной.
Поручик, мгновенье, задержав взгляд на ее лице, последовал за своим товарищем.
— Прошу прощенья, — со странным смущением в голосе проговорил поручик Грушевский, вслушиваясь, как Екатерина натягивает на влажное тело свою одежду.
— Вы случаем не mademoiselle Voropaeva?
— Как это ни странно, она самая…
Девушка подошла к костру и с сомненье посмотрела на обуглившиеся грибы, дымившиеся на березовом прутике.
— Ваше неожиданное появление, господа офицеры не только вогнали меня в краску, но и лишило горячего ужина. Кстати, господин Грушевский, а откуда вы меня знаете?- Она присела на выброшенный на берег топляк и попыталась хоть как-то уложить сырые волосы.
— Ну как же! – Вскричал, оборачиваясь, поручик.
— Вспомните: бал в Екатеринбургском горном институте на Рождество. 1916 год. Вспомните…Вы тогда, правда совсем еще юной девочкой были и господами офицерами совсем еще не интересовались.…Вы свой ангажемент помнится, отдавали совсем еще молодому юноше, кудрявому и постоянно краснеющему словно девица.…Неужели забыли? А я вот вас сразу признал.…Разрешите в честь такой неожиданной встречи поцеловать вашу ручку.
Грушевский наклонился и почтительно поцеловал Кате руку, после чего выпрямился, прищелкнул каблуками и представился.
— Поручик Грушевский, Александр Петрович. К вашим услугам.
— Александр Петрович. – Нарушил молчанье штабс-капитан, в сомнении разглядывая облаченье девушки.
— Быть может вы нас, все-таки представите друг другу?
— Ах, да. Конечно…
спохватился поручик и снова прищелкнул сапогами.
— Mademoiselle Voropaeva? Екатерина Владимировна. Единственная дочь и наследница бывшего Генерал-губернатора Воропаева, Владимира Александровича.
Штабс-капитан Вырубский, Сергей Николаевич. Прошу любить и жаловать…
Штабс-капитан Вырубский также наклонился, и слегка прикасаясь губами к руке девушки, поинтересовался, несколько фривольно:-
-А отчего ж, эксьюзми бывшего Генерал-губернатора? Никак отец ваш счастливо и вовремя эмигрировал, не в пример нам, болванам.
— Да. Счастливо и вовремя.- Катя разозлилась и сделала попытку покинуть общество разбитных офицеров.
Вырубский встал перед ней на одно колено, и со странной смесью наглости и почтительности, театрально отведя руку в сторону, проговорил:
— Куда же вы, mademoiselle Voropaeva? Как офицер не могу отпустить вас в таком виде. Тем более что вы по нашей вине остались без ужина. Прошу вас, Екатерина Владимировна пройти с нами, вы переоденетесь и покушаете.…Здесь совсем близко. Наш полк расквартирован в ближайшем городишке. Дыра конечно, но, однако ж, на вокзале наличествует даже ресторация. Впрочем, мой денщик готовит так же отменно.…Пойдемте.
— Хорошо. Я пойду с вами.
Она направилась к тропе, ведущей из камышей, но вдруг, словно что-то вспомнив, повернулась к капитану.
— Скажите мой друг, Елизавета Петровна Вырубская, игуменья и настоятельница женского монастыря «Утоли моя печали», случаем не ваша родственница?
— Это моя бабушка. – Кивнул он и отчего-то сконфузился…- А вы что, с ней знакомы?
— Я была послушницей в ее обители.…Давно. В прошлой моей жизни…
…- Как тесен мир, господа. Как тесен мир…- Фальшиво удивился штабс-капитан и вдруг решительно преградил дорогу Катерине.
— Mademoiselle Катя. К чему лукавить? Совершенно очевидно, что вы понравились и мне и моему единственному другу, Александру Петровичу. Сашеньке…Мне отчаянно не хотелось бы, в вашем лице обрести камень раздора между нами, тем более, если говорить откровенно, дела Белого движения на Южном Урале сегодня отчаянно плохи, и я, и он, в любой момент можем предстать перед Всевышним,… Проще говоря, каждый бой для нас может стать последним. Даю вам слово офицера и дворянина, что никто и никогда не узнает о вас ничего предосудительного. Клянусь, что даже в горячечном бреду, ваше имя никогда не прозвучит из моих губ. За благородство и благорассудство моего друга, поручика и дворянина Грушевского, я могу положить голову…
— К чему вся эта напыщенность господа? Можно проще?
Катерина посмотрела в глаза Вырубского, и тот не отводя взгляда, проговорил, словно бросился в прорубь.
— Катенька. Я прошу вас быть нашей военной подругой, если позволите маркитанткой.
Кровь прилила к щекам девушки, широко распахнутые зеленые, словно крыжовник глаза сузились, и казалось, позеленели еще больше.…Одним словом в этот миг она, несмотря на неприглядную местами изодранную свою одежду выглядела просто великолепно…
…- Еще несколько месяцев назад, услышав подобное, я бы ответила вам пощечиной, господин Вырубский. – Медленно, словно подбирая слова, проговорила девушка.
— Ну а сейчас я отвечу вам согласием. Да, я буду вашей маркитанткой, господин штабс-капитан. И вашей, господин поручик. Но при одном условии: с кем я буду спать в тот или иной момент, решать буду я сама. Пусть я буду вашей небольшой наградой за вашу отвагу и храбрость.…Обещаю, что мои личные симпатии или антипатии на выбор одного из вас на меня не повлияют. Все целиком зависит только от вас.…И еще господа, прошу вас без сцен ревности.…Если я почувствую хотя бы намек на подобные глупости, то прошу вас monsieur, не обессудьте, я тут же покидаю полк. Кстати, если вы господа полагаете, что я собираюсь проводить свои дни в обозе, рядом с кухней и разжиревшими фельдфебелями, то вы жестоко заблуждаетесь. Только на передовой. Только вместе с вами. А иначе как я узнаю, в чью палатку мне идти?
Катерина звонко рассмеялась и пошла к лошадям, стоявшим на привязи поблизости.
12.
Первый снег, а вслед за ним и настоящая, устоявшая зима заявились на Каменный пояс много раньше всех календарных сроков. Уже в середине ноября, глубокий, рыхлый снег покрыл уральские волости, и лишь незамерзшие озера, темно-серой, снежной кашей выделялись из общего, слепяще-белого холода.
Часть, в которой служили штабс-капитан Вырубский, Сергей Николаевич и поручик Грушевский, Александр Петрович, а теперь и Екатерина Воропаева, с боями покидала Южный Урал.
Златоуст, Чебаркуль, Челябинск перешли к красным, и в них прочно установилась советская власть…
Теоретики белого движения переоценили влияния на местное население крепкого купечества из староверов, столь сильного до семнадцатого года. Купечество не решилось на открытое сопротивление молодой власти и лишь иногда, под большим нажимом снабжало белогвардейские части продовольствием и фуражом для лошадей, да и то низкого качества. Купечество выжидало, тайком переводя наличные деньги за бугор. Большевики в своих целях активно использовали агитбригады, которые на небольших подвижных санях, разъезжали по селам и казачьим станицам и бесплатно раздавали всем желающим красочно выполненные листовки и буклеты. Подобное сопровождалось обычно веселыми разливами гармоник и громким пением красивых и румяных девиц, разодетых в национальные русские наряды. Популярность белой гвардии стремительно падала не только среди зажиточных слоев уральского населения и безземельной голытьбы, но и среди исконно преданного монархии Яицкого казачества.
Разрозненные, оголодавшие и уставшие части Белой гвардии медленно, но верно откатывались к северу…
Все реже и реже, Екатерина исполняла свои, если можно так выразится обязанности маркитантки, все чаще и чаще она действовала и вела себя с молодыми офицерами как настоящий друг и боевой соратник, участвуя практически в каждом сражении.
Февраль 1919 года выдался необычайно морозным и малоснежным. Деревья в лесах с треском лопались от мороза, а уставшие заиндевелые лошади резали себе брюхо обломками острого наста, лежащего на заснеженных полях и полянах, если не дай Бог, кавалерия вынуждены была двигаться по бездорожью. Жизнь, да и военные действия, как со стороны белых, так и со стороны красных казалось временно приостановились. Мороз и плохое продовольственное снабжение, сковал всяческое желание, как нападать, так и обороняться…В белогвардейских частях воцарили пьянство, дезертирство и апатия. Белая идея выдыхалась…
— В нашей старой каминной,
Где от жара трещит не натертый паркет, ты лежишь на диване.
Аксельбанты в пыли и казенный пакет,
Где двуглавый орел сургучовыми плачет слезами…
Позументы померкли, в желчной рвоте камзол,
В затхлом воздухе пахнет сивухой.
И старинный дворецкий, куда-то без спроса ушел,
В окна бьется навозная муха…
Господи, Сашенька, что вы поете!? Сколько можно? Бросайте свою гитару, давайте лучше выпьем. Я достал вполне сносный самогон. Променял бинокль на двухлитровую бутыль у одного жуликоватого аборигена. Не знаю как на вкус, но горит очень даже…
Сергей Вырубский в одних кальсонах и сапогах сидел за столом и, прищурившись, смотрел на голубоватые язычки пламени. Лужица самогона, сужаясь на глазах, пылала прямо на досках обеденного стола.
…- Я не хочу пить, господин штабс-капитан. Я, похоже, уже ничего не хочу. Я даже Катьку, если честно уже давно не хочу…Я устал… Да я устал! Устал.
— Александр Грушевский отбросил гитару, поднялся с нерасправленной кровати, где лежал в кителе и сапогах, подошел к столу и рывком наполнил два граненых стакана.
— Вы милостивый государь приглашали меня выпить? Извольте.
Они выпили и зажевали кусками холодной отварной конины.
— Мы, дорогой вы мой Сергей Николаевич здесь, в этой глуши скоро подохнем. Вы меня слышите!? Не погибнем в неравной схватке, как нам когда-то мечталось в юнкерах, а сдохнем.… От безделья и тупого ничегонеделанья,…Что мы здесь!? Зачем мы здесь!? Где обещанное вооружение? Где обещанное снабжение? Где даурское и сибирское казачество.… И вообще, зачем и с кем мы воюем? Со своим же мужиком? Сватом? Братом.…Зачем…
Царя давно нет. Веры как таковой тоже…Что остается – Отечество?
Так с кем мы воюем за наше отечество.…С кем?
Мне вчера ефрейтор забыл отдать честь, а я, вы меня слышите Серж, я даже не дал ему по зубам…Господи! Спаси нас грешных…
Мы здесь пропадем в этих снегах…Я сейчас лежал и думал: а может быть плюнуть и на Колчака, и на Дутова.…Плюнуть и уехать за границу, благо Крым еще наш,…а с другой сторону, ну кому мы там нужны? Что мы там с вами, Сергей Николаевич будем делать? Что мы можем делать? Воевать? Так они не воюют…Им это не интересно…Господи! Вразуми…
— Оставь причитанья, Сашенька.- Поморщился Вырубский.
Что ты как институтка при задержке менструации — «Что делать? Что делать?» Не знаю.…Пока воюй, Саша. А как дальше карта ляжет, только одному Богу ведомо… Может быть и в Харбин…
— в Харбин!?- завелся, было, поручик, но тут, в клубах пара в избу, где столовались товарищи, вошла Екатерина.
Румяная и свежая с мороза, в коротком венгерском полушубочке расшитом позументами и в папахе светлого каракуля была она необычайно хороша.
— Ох, господа офицеры, ну вы и накурили…- она присела на скамью рядом с капитаном и поморщившись понюхала ополовиненный стакан.
— Что за мерзость вы пьете, ваше высокородие?
— Напрасно та так, Катя — обиделся Вырубский и, отобрав у девушки стакан, допил вонючую жидкость мелкими глотками, по «благородному» отставив мизинчик.
— Очень хорошо…- выдохнул он и закашлялся…
Поручик Грушевский откинулся к стене и расхохотался…
— Божественный нектар, а не самогон. Слеза монаха — бенедиктинца…- Он тоже выпил и полез в карман за папиросами…
— Кстати о монахах. Вернее о монашках…- вспомнила Екатерина и взяв у подпоручика зажженную папиросу жадно затянулась…
— Господин Вырубский. Не желаете посетить обитель своей бабушки…Монастырь всего в двух верстах…
— Нет, не желаю. Быстро, не задумываясь, ответил штабс-капитан и тоже закурил.
— В нашей семье все кроме нее атеисты. Даже ныне покойный дед, бывший муж Елизаветы Петровны из всех церковных праздников, воспринимал только Пасху, да и то только из-за куличей…Любил сдобу грешным делом…Оттого и лишним весом страдал…К тому же под Исетью насколько мне известно красные…Зачем лишний раз Божье терпенье искушать? Никогда не имел желания с судьбой в Русскую рулетку играть…Ты мне, Катерина еще наследника не родила.…Так что не обессудь, не поеду…Я слышал, ты ей в свое время обещала достать денег? Деньги дам. А сам не поеду…Экскьюзми…
Вырубский смял недокуренную папиросу в блюдце и недобро уставился в образа, висящие в красном углу.
— Я провожу тебя, Катенька. – Поручик с трудом поднялся из-за стола и направился к двери, где на гвоздях, вбитых в стену, висели его шашка и шинель…
— Прекрасно. — Проговорила маркитантка, выходя из избы.
— Я прикажу подготовить лошадей…
13.
-Доброе утро, Матушка. Вот вам деньги на ремонт храма. Возьмите…
Екатерина, не сходя с заиндевелой лошади слегка пригнувшись, протянула небольшой фаянсовый мешочек с золотыми червонцами старой игуменье, вышедшей на заснеженную церковную площадь в своей старенькой рясе и войлочной душегрейке, накинутой на плечи.
Старая игуменья близоруко сощурилась, разглядывая наездницу. После, не торопясь достала очки с круглыми стеклами в черепаховой оправе и вновь уже более внимательно оглядела бывшую послушницу.
— Да ты, Катенька никак вновь в мир решила вернуться?
Наверное, ты поступила правильно: быть монахиней это тяжкий труд.…И он под силу далеко не каждой.…И лучше всего и для церкви и для человека, если он поймет это как можно раньше.…
Горестно пожевав нижнюю губу, проговорила, наконец, игуменья.
— И судя по всему, ты примкнула к белым.… Но сюда ты приехала напрасно. Вокруг монастыря много красноармейских отрядов.…Не далее как вчера мимо наших стен их обоз проходил.…Сама видела.…Так что лучше тебе уехать, от греха подальше…мне будет очень больно, если с тобой, Катенька приключится неладное…
Прощай голубушка.…С Богом.
Cтаруха перекрестила девушку, и резко отвернувшись от бывшей послушницы, направилась к группе монашек, сбрасывающих заснеженные поленья с саней.
— Постойте, матушка. – Катерина спрыгнула с лошади и подбежала к игуменье.- Вот деньги. Большие деньги. Возьмите на реконструкцию. Возьмите.
Игуменья обернулась, устала, посмотрела на девушку и, покачав головой, отказалась…
— Нет, Катенька. Не возьму я твои деньги.…Не те это деньги, что мы так долго ждали.…Ох, не те…
Катерина смерила взглядом уходящую старуху, швырнула ей под ноги золото и злобно, на весь двор закричала:
— … *Eh bien allé en enfer, vous vieux fou, je suis pour cette merde elle s’est tournée vers la merde …
После чего ловко и зло вскочила в седло и на всем скаку покинула обитель.
— Бог отпускает человеку ровно столько испытаний, сколько он может выдержать, но не больше…
Скорбно проговорила настоятельница женской обители, глядя в спину уезжающей Екатерины. Прощай.
Она перекрестилась и вновь направилась к сестрам…
— Поехали обратно Саша!- громко, с странно веселым надрывом крикнула она на скаку поручику, ожидающему ее возле распахнутых ворот.
— Я выполнила что обещала! Теперь поехали пить, мой хороший…Я имею желание напиться…
Грушевский хмыкнул, выплюнул на снег папиросный окурок и погнал лошадь вслед за девушкой…
…Недавно поступившему к красным на службу, снайперу Емельяну Саломасову, повезло, не в пример остальным бойцам, замерзающим на пронизывающем февральским ветру.
Гнездо, оборудованное им на ветряной мельнице, стоящей в версте от монастырских стен было сухо и тихо. А скупое на тепло зимнее солнце, своими лучами казалось даже слегка прогрело комнатуху с небольшим оконцем, расположенную под самой крышей мельницы.
Он уже давно заметил двух приближающихся всадников и только оттого медлил с выстрелом, что еще не решил, кого из них положить своей пулей.…И вдруг, в оптическом приборе своего карабина, Саломасов увидел, как один из них, зачем-то снял с головы светло-серую папаху и прижал мех к лицу…Длинные, светло-русые волосы, вырвавшись на свободу, тотчас же затрепыхали за спиной у белогвардейского кавалериста.
— Да это баба!- пораженно воскликнул снайпер, жадно разглядывая Екатерину…Красивая чертовка.…Была…
Емельян Саломасов прижался щекой к отполированному дереву приклада и плавно нажал курок…
*…Ну и пошла к черту, старая дура! Я ради этого дерьма сама в дерьмо превратилась…
ПОБЕГ
Желтый, почти прозрачный березовый листочек обессиленно опустился к самым ногам Саввы.
Савва, по документам Савелий Александрович Гридин, невысокого роста, тонкий в кости мужик сорока с небольшим лет, с тоской разглядывал этот желтый резной листок, быть может, впервые поражаясь его бесконечному совершенству и красоте.
Проверяющий закончил поверку, передал журнал дежурному офицеру по лагерю и, повернувшись на слегка кривоватых ногах, пошел не спеша вдоль шеренги черных замызганных бушлатов и таких же ушастых, черных, засаленных шапок. Он шел вразвалочку, покуривая и небрежно сплевывая, и по пути, ненароком, каблуком своего отполированного черного сапога размазал листочек о влажный асфальт плаца.
Офицер давно уже перешел к проверке следующей шеренги заключенных, а Савва все смотрел и смотрел на безжизненный, бесформенный, грязный ошметок, лишь мгновение до этого бывший вершиной совершенства природы, отчетливо понимая, что он, Савелий Гридин, более уже не сможет жить, находиться здесь, в этой зоне, в этом лагере, в своем бараке под номером двенадцать, за пять лет ставшим почти родным. Нет, не сможет.
И Савва бежал.
Глупо.
В одиночку.
В стремительно приближающуюся осень…
1.
Еще не успела первая с начала смены сосна с шумом и треском рухнуть на землю, ломая на своем пути жидкий подлесок, чахлые березки и худосочный ольшаник; еще не угас предостерегающий крик бригадира «Поберегись!», а Савва уже ломанулся в лес, в обход сидящего возле костра, курящего в полудреме, вооруженного охранника, справедливо полагая, что если он сейчас сможет незаметно уйти, то о его побеге станет известно, как минимум, только к обеду. А если повезет, то и не раньше вечера.
Гридин бежал, стараясь не громыхать раздолбанными ботинками, забирая постепенно все глубже и глубже в лес, прочь от колючки временного забора, сооруженного вокруг делянок лесоповала, прочь от сердитого надсадного рева десятка бензопил, старательно обходя скользкие валуны гранита, покрытые темно-зеленым мягким и податливым мхом, и полянки, заросшие высокой ломкой травой.
Казалось, что само подсознание доселе дремавшего в нем животного начало подсказывать, как, куда и почему ни в коем случае наступать нельзя, а куда, напротив, можно.
Гридин бежал, с наслаждением вдыхая осенний, пропитанный запахами хвои и прелой листвы воздух.
Воздух, донельзя напоенный ароматами свободы.
Воздух, о существовании которого он как бы даже и не догадывался там, за лагерной колючкой.
Воздух, в котором не было и намека на барачную вонь, испарения вечно влажных портянок, смрад дешевого табака и миазмы переполненной, прокисшей, пузырящейся параши.
Савва остановился перевести дух возле высоченной, отмеченной молнией сосны, сковырнул ногтем тронутую блеклой патиной янтарную каплю смолы и бездумно, улыбаясь непонятно чему, отправил ее в рот.
Пряная горечь, тотчас налипшая на зубы Савелия, самым неожиданным образом успокоила беглеца, и дальше уже он шел не торопясь, часто отдыхая и присматриваясь к окружающей его тайге.
С каждым часом, все дальше отдаляясь от зоны лесоповала, Савва все более и более утверждался в правильности своего, на первый взгляд безрассудного, поступка. Так, как он прожил все предыдущие годы, человек жить не должен. Не имеет права. Если он человек…
Да, он вор. Да, наверное, закон прав, хотя и суров. Но то дно, вся та обстановка, в которой пришлось вариться Савелию Гридину последнее время, меньше всего предполагали его исправление. Ежедневный холод, недоедание, крысятничество и почти нескрываемое мужеложство в зараженных клопами и вшами бараках, беспричинная жестокость и охранников и охраняемых ломали людей, озлобляли, лишали их всего того светлого, что наверняка было (да как
же иначе) в их душах до того, как лагерные ворота заменили им двери родных домов.
И он бежал…
Хотя если хорошенько подумать, то бежать Савелию было особо-то и некуда…
Жены у него как-то не случилось, а мать после смерти отца, известного в Москве партийного работника, ударилась в религию, да так прочно, что стала старостой небольшого храма в Марьиной роще, а сына родного прокляла и пообещала в дом не пустить, даже если и по истечении срока отсидки…
Да и квартиру, большую четырехкомнатную квартиру с высоченными потолками и окнами на Тверской бульвар, поклялась безвозмездно передать в дар синоду.
…Внезапно кабанья тропа, по которой шел Савва, круто повернула вправо, и тут же глазам изумленного беглеца предстала река во всей своей северной красоте.
Пока еще не быстрая, несколько даже вальяжная, текла она неизвестно куда, необычайно радостная и нарядная, светлая под ярким покамест солнышком, вся сплошь в зеленых кляксах лощеных листьев водяных лилий и в зеркальном отражении чуть тронутых желтизной берез и высоченных кедров, растущих поодаль на противоположном красного гранита обрывистом берегу…
— Красота-то какая, Господи! — умиленно возликовал Савелий и присел (впервые после побега) перекурить, радостно щуря обожженные дымом папиросы глаза. — Красота… Да если бы подобное чудо, если бы речушку эту увидеть мне довелось в свое время, по малолетке положим, да неужто бы понесло меня невесть куда, по дорожке моей, по кривой, по этапной? Да ни за что!
Так, скорее всего, размышлял Савва о жизни своей никудышной, вольготно развалившись над обрывчиком, поросшим распушенным, перезревшим уже
кипрейником, покачивая ножкой в порыжевшем стоптанном ботинке и покусывая горьковатую жесткую былинку.
И так вдруг ему захотелось выспаться здесь, на этом бережочке, под сосенкой, с видом на безымянную эту речушку, подложив, под голову свою непутевую, кучку золотисто-желтой мягкой и не колючей хвои, что он чуть было в голос не завыл, но далекий надрывный лай собачьей своры, мигом отрезвив Савелия, сбросил каторжанина с обрыва навстречу реке-спасительнице.
— Уйду, суки, непременно уйду… — ругнулся Гридин и, не снимая ботинок, помедлив мгновенье, вошел в прохладные струи реки… — Уйду.
2.
Лай собак отчетливо приближался, а Савва все еще пытался выволочь на середку реки, мелкой в этом месте, большой корявый пень, черными корнями прочно зацепившийся за прибрежные влажные валуны.
— Ну пожалуйста. Ну что тебе стоит? Ну, давай, сучья лапа! — неизвестно к кому: к себе ли, к коряге ли этой неподатливой, в голос, в охрипший крик взывал беглец, но корневище сидело как вкопанное, лишь ломаный комель слегка колыхался в воде, словно дразня и издеваясь над каторжанином.
— Да ну и хрен с тобой! — взвыл от отчаяния Савва, спиной уже чувствуя горячее дыхание спущенных с поводков псов, как пень вдруг, вздрогнув, вывернулся и не торопясь, растопырив толстые, в руку, коренья, поплыл по воде, плавно забирая все более и более влево.
— Спасибо тебе, Господи! — наспех перекрестился Гридин и, плюхнувшись брюхом в реку, погреб вслед за уплывающим бревном.
Краем глаза Савва заметил возле берега появление собак – крупных псов, обиженно скулящих и бестолково шныряющих в прибрежной осоке, но спасительный пень, а вместе с пнем и он уже заплывали за поросший густой ольхой небольшой каменистый островок…
— Ушел, — выдохнул Савелий и, вкарабкавшись на толстый обломок ствола, покрытый теплой шершавой корой, радостно засмеялся…
Комель, на котором расположился беглец, возвышался над водой, и вымотанный донельзя мужик, слегка поворочавшись, умудрился даже прилечь на нем, животом принимая все тепло, накопленное деревом за день.
— Ушел, — повторился Гридин и, прихватив руку ремнем, переброшенным через торчащий вверх обломок корневища, закрыл глаза.
— Ушел, — уже засыпая, шептал радостно беглый зэка, прильнув щекой к мшистой пробке, явственно чувствуя всем своим промокшим и озябшим телом ласковое прикосновение лучей предвечернего солнышка…
…Проснулся Савва совершенно продрогшим, но необычайно отдохнувшим и бодрым. Подсохшая было на нем одежда вновь стала волглой от обильной росы, выпавшей под вечер. Беглый вор потянулся, вновь заправил ремень в штаны и перевернулся на спину. Крупные звезды, мерцая холодным, безжизненным голубоватым светом, повисли, казалось, над самой рекой, отражаясь в черном зеркале воды слегка дрожащими крупными блестками. Река текла меж двух чернеющих скалистых берегов неспешно и почти бесшумно. Лишь изредка слышалось негромкое ее журчание среди обломков породы, да шлепала пузом рыбья мелочь, спасаясь от зубов прожорливой щуки. Савва запустил руку под надорванный козырек черной брезентовой шапки и выудил мятую сигарету да расплющенный спичечный коробок.
Табачный дым, почти невидимый в плотной предрассветной мгле, уносился прочь, отгоняемый легким, пропахшим хвоей и тиной ветерком. Сигаретный окурок, зашипев, погас, и вокруг Саввы, плывущего на своем пне, вновь воцарилась звездная темнота, донельзя наполненная ночными запахами и звуками. Счастливо хрюкнув, Савелий поплотнее запахнул бушлат и, зарывшись носом в засаленный воротник, вновь погрузился в сон, крепкий, без сновидений…
…Несколько раз за день река разбивалась на рукава, отдельные протоки, но Савва, слегка подгребая руками, постоянно выбирал самые левые ответвления, справедливо полагая, что, двигаясь к югу, он скорее наткнется на хоть какое-то человеческое жилье и попытается раздобыть для себя что-то из съестного. Хотя, справедливости ради должно сказать, что съестного вокруг Гридина было вдоволь. В камышах шебуршали отъевшиеся за лето, тяжелые утки. В черных лужах, наполненных теплым перепревшим илом, лежали, сонно провожая взглядом голодного, безоружного, а значит неопасного, зэка, наверняка ужасно аппетитные в жареном виде, но в настоящее время живые и несъедобные кабаны и дикие свиньи. К левому более пологому берегу, словно дразня оголодавшего мужика, частенько на водопой подходили нервные косули, передергивая испуганно хвостами, наскоро, короткими глотками, пили холодную воду и вновь скрывались в чаще. Перевернувшись на живот, Савва часами наблюдал, как в изумрудных, качающихся, словно русалочьи волосы, зарослях элодеи безбоязненно выискивали что-то у дна широкоспинные хариусы и плоскоголовые усатые налимы.
На высоких отвесных скалах, проплывающих мимо беглеца, иногда виднелись покосившиеся столбы с разодранной колючкой да поваленные вышки – заброшенные, безжизненные лагеря времен культа личности…
…И вновь выпала вечерняя роса, и вновь наступила звездная ночь, но Савелию было уже не до ее красот, да и чувство эйфории, опьянение от свободы, давно уже улетучилось, уступив место жуткому голоду, притягивающему и без того плоский живот к самому позвоночнику… С отвращением набив полный рот сосновой корой, оторванной с пня, Савва, старательно ее пережевав, попытался проглотить это безвкусное, отвратно-пресное крошево, но оголодавший организм мужика все ж таки не принял эту обманку, и уже через мгновение Гридин, стоя на карачках, блевал в воду горькой желчью вперемешку с разбухшей корой.
… Рано утром, когда Савва в очередной раз отгребал пень влево, в протоку с более медленным течением, ему показался чей-то негромкий рассудительный говорок, но, присмотревшись, он понял, что это небольшая волна просто-напросто бьет в рассохшийся борт лодки.
От неожиданности зэка чуть не упал в воду и даже ополоснул лицо речной водой, но ничего не изменилось: вот поросший камышом заливчик, вот кабанья тропа, уходящая в чащу леса, вот темный от ила песок, а вот и лодка, до половины вытащенная на берег, но самое главное, от лодки к большому валуну, наклонно торчащему из песка, тянулась буро-красная от ржавчины цепь.
Савелий спрыгнул со своего пня, по самую грудь провалившись в студеную воду, и, оттолкнув ненужную более коряжину, побрел к берегу.
3.
Одного взгляда хватило разочарованному Гридину, чтобы понять, что лодкой уже давно, слишком давно не пользовались. Сквозь щели в ее бортах свободно просачивалась речная вода, а сквозь дно – тоненькая осинка умудрилась пропихнуть темно-серый, гнутый стволик…
Хлюпая водой в раскисших ботинках, Савва, как мог, поспешил по тропе вверх. Падая и сдирая в кровь пальцы о довольно пологий склон, он неожиданно вышел на почти идеально круглую поляну, притаившуюся среди столетних сосен и кедров.
Прямо перед ним стояла покосившаяся, рубленная из дерева часовенка, а чуть поодаль, за небольшим погостом с кособокими трухлявыми крестами, виднелся притулившийся к древней березе сруб с небольшими подслеповатыми оконцами. Сруб был обнесен плетнем, но плетнем хитрым: каждая веточка высохшего орешника, каждая жердь, поставленная вертикально, были старательно заточены, и примитивный, хлипкий на первый взгляд заборчик при более внимательном знакомстве оказывался серьезной защитой от непрошенных гостей, будь то зверь таежный, будь то варнак беглый.
— Скит, — откуда-то из глубины памяти Савелия выплыло это слово, и он, сбрасывая с себя мокрый бушлат, штаны и ботинки, по росистой траве поспешил к дому.
— Скит, — повторил уже более уверенно зэка, плечом приоткрывая тяжело поддающуюся дощатую дверь калитки. — А калитка-то не заперта, — с радостной опаской отметил Гридин и, осторожно ступая босыми ногами по мягкой и прохладной траве, направился к крыльцу.
…Убранство дома поражало своей основательностью и простотой.
Бревна, из которых были сложены стены, хотя и отличались друг от друга по толщине, но тем не менее казались хорошо обтесанными, а мох между ними был старательно и плотно забит. Вдоль стен стояло несколько скамеек, грубоватых, но прочных, а в простенке между окон расположилось слегка кособокое плетеное кресло. В оконцах вместо стекол были вставлены тонкие пластины слюды, серовато-зеленой на просвет.
В углу, на полочке, застеленной неопределенного цвета тряпицей, стояли темные, выгнутые иконы, с которых на непрошеного гостя с укором и грустью смотрели какие-то лики.
Чуть левее, на четырех вбитых в стену гвоздях, висели четыре офицерских шашки в простеньких потертых ножнах с позеленевшими, видимо медными, кольцами. Савве подумалось, что в свое время на этих же гвоздях висели и кителя, но сейчас лишь легкая потертость бревен говорила об этом.
За скамейкой, аккуратно приставленной к бревенчатой стене, в ряд стояли четыре винтовки Мосина, тускло поблескивая пыльными стволами…
В комнате густо пахло махоркой, мышами и еще чем-то затхло-пыльным. Но все это: и шашки, и иконы, и скамейки с креслом — Савелий рассмотрел много позже, только после того, как смог несколько успокоиться и пройтись по дому, ну а пока же он не отрываясь смотрел на стоящую на столе домовину (вырубленный из цельного бревна гроб) в которой, торжественно сложив руки на груди, лежало тело древнего старика с реденькой седой бородой, в белой гимнастерке с двумя прямоугольными карманами на груди и темно-синих шароварах с ярко-алыми лампасами, в правом ухе – крупная золотая серьга. Вся левая сторона груди усопшего казака была увешена крестами и незнакомыми для зэка орденами. Но не ордена и кресты, украшающие грудь, по-видимому, отважного при жизни казака, останавливали взгляд Саввы, а его руки. Руки темно-коричного цвета, напрочь высохшие, с тонкими длинными пальцами и резко выпирающими суставами.
— Е-мае! — выдохнул пораженно Савелий и, судорожно сдернув с головы шапку, принюхался… Но нет, пахло всем чем угодно, но только не тленом. Не было того приторно-отвратного запаха разлагающейся плоти, обычно сопровождающего уход человека из жизни…
— Когда ж вы, ваше благородие, изволили откинуться? — подбодрил самого себя Гридин и притронулся к правой руке усопшего, у которого меж высохших пальцев неизвестно каким чудом держалась коротенькая церковная свечечка коричневого воска.
Под чуткими пальцами беглого вора кожа хозяина домовины зашуршала пересушенным табачным листком, тускло и одновременно вызывающе громко.
— Похоже, давненько… — решил Савва и, не обращая на покойника более никакого внимания, принялся осматривать дом.
Несмотря на кажущиеся небольшие размеры сруба, зэка обнаружил, кроме основной комнаты с гробом на столе, еще небольшую кухоньку, половину из которой занимала массивная печь, выложенная из обломков сероватого сланца. Из кухни, через широкий дверной проем, занавешенный куском простенькой материи, Гридин попал в спальную. Широкие нары, вместо матрасов медвежьи шкуры, прикрытые почти прозрачной от ветхости и многочисленных стирок простынею с остатком золотого шитья по уголкам в виде какого-то герба; уже виденная Саввой на кухне печь, одной из своих стен выходившая как раз к ногам нар, так что зимой здесь, надо полагать, было более чем тепло… Складывалось впечатление, что тот, который сейчас лежал в кедровой домовине, перед смертью старательно прибрался во всем доме, и можно было подумать, что хозяева скита вот-вот вернутся… если бы не слой лежащей повсюду пыли.
…Естественная физиологическая потребность выгнала зэка из дома и он, как был босиком, выбежал во двор. Как ни странно, туалета Савелий не обнаружил, и, помочившись в заросли лопуха, он, поджимая от холодной росы босые ступни, направился к странному сооружению, торчащему посреди двора. На высоком столбе, густо обмазанном медвежьим жиром, под крышей из дранки примостилось нечто похожее на необычайно большой скворечник с метровой дверцей на тронутой ржавчиной щеколде.
— От зверья надо полагать, — решил Савва и, приставив к «скворечнику» лестницу, лежащую тут же в траве, нетерпеливо забрался наверх.
Окислившиеся петли натужно скрипнули, и в лицо ошарашенного беглеца шибанул сказочный, ни с чем не сравнимый запах меда, которого здесь было явно немало. На полочке стояло несколько берестяных округлых коробок с нарезанными крупными квадратами сотами, полными уже побелевшего меда. У противоположной стены на крепком шпагате богато поблескивали выступившей солью несколько сушеных рыбин, а в самом углу кладовочки, на деревянном сучке-крючке, висела темно-багровая, почти черная, кабанья ляжка – солонина.
— Ну, ни хрена себе! — радостно хрюкнул Савва и, сдернув мясо с крюка, не без труда поволок его в дом, не забыв, впрочем, за собой плотно прикрыть дверцу «скворечника».
— Ай да казаки, ай да молодцы! — не переставая повторял он, нетерпеливо орудуя острым ножом на наспех протертом от пыли кухонном столе. Под толстой и твердой, как подошва, коркой солонины оказалось необычайно сочное и вкусное мясо.
Кусок за куском, почти не пережевывая его, глотал оголодавший Гридин дармовое угощение, сожалея лишь об отсутствии воды…
— Эх, сейчас бы чифирьку кружечку! – сытно зажмурившись, откинулся от стола Савва и запустил пальцы под козырек своей шапки, заведомо зная, что сигареты уже давно закончились…
Оставив на столе все как есть, он с трудом приподнялся с табурета и, пройдя несколько тяжелых трудных шагов, рухнул в постель…
— Да, чифирь сейчас бы не помешал… — мечтательно пробормотал Савелий уже сквозь сон…
4.
— …Ты уж, малый, похорони меня как-никак, — увещал его сквозь сон чей-то голос, негромкий и спокойный.
— Негоже с мертвяком под одной крышей находиться. Не по-христиански это как-то… Одежу можешь взять, тебе она нужнее будет… Только исподнее будь мил оставь да на кресты не зарься, в гроб положи… У тебя, чай, свой крест, не из легких… А что курева нет, не тужи – в светелке, под образами, найдешь табачок, верно говорю… Но похорони меня… Устал я, ох как устал…
— Да похороню, похороню, сука буду, если совру, — нетерпеливо проговорил Савва и тут же проснулся от звука собственного голоса.
Сквозь слюдяное оконце с трудом пробивался утренний, мрачный покамест свет.
— Это ж что получается, — подумал зэка. – Выходит, я целые сутки проспал…
Он с трудом поднялся и, попытавшись проглотить вязкую, словно с похмелья, слюну, прихватив в сенцах помятое жестяное ведро, как был в трусах и босиком, побрел к реке. Росистая трава холодила ноги, и Савва, взбодрившись, проснулся окончательно.
…Зачерпнув ведро студеной до ломоты в зубах воды, Савелий поспешил к скиту, по пути подбирая разбросанную вчера одежду и ботинки. Ступая по влажной траве, он глупо и счастливо улыбался, вновь разглядывая свое новое жилище, свой вновь обретенный дом. Часовенка показалась ему довольно забавной, кресты на погосте уже не омрачали его душу, да и сам домик с маленькими слюдянистыми окнами уже стал почти что родным.
— А может быть, хватит тебе, Саввушка, бегать-то по тайге, а? Ну что тебе еще надо? Дом есть, лес вокруг, зверья небось полно… рыба опять же… Не пацан уже, сороковник разменял… А что людей нет, так кто знает, так оно быть может даже и к лучшему… — размышлял Гридин, подходя к дому и помахивая влажной еще одежкой. Глотнув еще водички, теперь уже не торопясь, из стакана, Савва поймал себя на мысли, что нарочно оттягивает время, и ему ужас до чего не хочется проходить в дом, искать табак под образами…
…Табак и в самом деле нашелся сразу: в углу на скамеечке лежал, аккуратно перехваченный мохнатым шпагатом, средних размеров мешок, наполовину полный крупно нарезанным табаком-самосадом…
— Ну спасибо тебе, казачок, за подсказку, — скосил взгляд на домовину Савелий и с удивлением заметил стоящую возле стола штыковую лопату с отполированным до грязно-серого шелка черенком, незамеченную намедни.
— Ладно-ладно, не журись, — миролюбиво проговорил зэк, — раз обещал похоронить, значит, похороню. Дай только бумажку какую найду… Вот курну и похороню…
На печке, на сланцевом приступочке, он наконец-то обнаружил довольно толстую тетрадь, исписанную мелким почерком странными буроватыми чернилами…
Наверное, марганцем писали, а может, и от времени побурели… — уважительно подумал Савелий и, развернув тетрадь, прочитал первую страницу:
«Во имя Отца и Сына и Святаго духа, аминь.
Я, Божьей милостью Хлыстов Иван Захарович, подъесаул Уральского казачьего войска, по личному приказу генерал-лейтенанта Толстова В.С., с четырьмя сотоварищами, моими подчиненными, оказался здесь, в этой Богом забытой северной глуши.
Старший урядник Попов Петр, его младший брат – урядник Попов Александр и два приказных – Давыдов Емельян и Громыко Алексей, не ведая истинной причины и конечной цели нашего предприятия, тем не менее оказались до последних вздохов верными моим приказам и воинской присяге, да пребудут они с миром в царствии небесном…
…Зная мое пристрастие к сочинительству, генерал-лейтенант Толстов в приватной беседе попросил меня в моих записках – если я таковые надумаю писать – о цели и месте нашего предприятия по возможности не указывать, в чем я, как человек благородный, не мог ему отказать, тем более что ни генерал, ни я в эту затею атамана Дутова не верили и надежд на нее особых не возлагали…
После беседы с генералом мы покинули его штаб-квартиру и все вместе (впятером) отправились к атаману Дутову, который уже ожидал нас на вокзале маленького уральского городишки Миасс для дальнейшего инструктажа. Инструктаж получить мы так и не успели. Красные подогнали к вокзалу бронепоезд и под защитой его брони начали в упор обстреливать как вокзал, так и привокзальную площадь, где в это время находился Дутовский обоз. Атаман со своим объединением вынужден был отойти несколько севернее, в горы, но через адъютанта передал нам записку с пожеланием и ордер для предоставления его в атаманское казначейство.
Получив сухой паек, спирт и некоторое количество денег, мы, минуя заслоны красных, через «Малиновый хребет» поспешили прочь из города. Предприятие предстояло довольно опасное, а, на мой взгляд, где-то даже и авантюрное…»
Прочитанный листок Савва аккуратно вырвал из тетради и, не жалея табака, соорудил себе отменную самокрутку.
Сидя на крылечке, он, с удовольствием вдыхая в себя горячий табачный дым, умиленно поглядывал на окружающую его тайгу, безоблачное небо, покосившуюся часовенку…
— На курево буду брать только прочитанные листы, — великодушно решил зека и, загасив самокрутку обслюнявленными пальцами, нехотя поднялся.
— Хочешь не хочешь, а старика хоронить все ж таки придется… Тем более раз обещал. — Он еще раз окинул восторженным взглядом слегка позолоченные осенью леса и вошел в дом…
Небольшое, ничем не огороженное кладбище начиналось сразу же у стен часовни.
На округлом, окатанном рекою валуне красного гранита в глубоко выбитых неровных буквах застряла пыль и поселился темно-зеленый мох, так что надпись практически не читалась:
«Здесь покоится основатель и первый……….иеромонах
Андрей………..24июля………189…………
Спи с мир……………..»
На соседних деревянных крестах надписей либо совсем не было, либо они выцвели под воздействием дождей и солнца, и лишь на двух крайних сохранились истлевшие остатки казачьих фуражек. Кокарды от них, позеленевшие с годами, кто-то заботливо прибил к перекрестьям…
Выбрав небольшой, освещенный солнцем холмик, Савва аккуратно срезал прямоугольный пласт дерна и принялся копать могилу.
Плодородный слой оказался на удивление тонким, сантиметров пятнадцать, не более, а под ним пошла сплошная глина вперемешку с мелким камнем. Лопата скрипела по гальке, черенок предательски гнулся, но Савелий упорно, штык за штыком вгрызался вглубь северной земли…
— Не переживай, Иван Захарович, закопаю. Савва никогда сукой не был. Раз пообещал, что похороню, значит, похороню… – подбадривал себя зэка, отбрасывая в сторону каменистое крошево.
— Лишь бы валун не попался… — продолжал он разговаривать сам с собой. — Вот с валуном мне в одиночку не справиться… Придется начинать новую если что…
Валун Гридину не попался, и уже к вечеру он стоял над глубокой ямой, из стенок которой торчали и исходили пьяным запахом перерубленные кедровые корни…
Вонзив лопату в кучу сырого грунта, Савелий с трудом разогнул заболевшую спину и поплелся к скиту перекурить…
«…Мы идем уже четвертые сутки, все глубже и глубже забираясь в уральскую тайгу. Слава Богу, что предприятие наше началось весной и лошадки во время стоянок вдоволь находили для себя молодой сочной травы, да и с водой также проблем особых не было: кое-где в лесу еще лежит снег, а небольшие овражки и впадинки полнехоньки талой воды. Я еду замыкающим, передо мной братья Поповы, потом Громыко, а в голове отряда Давыдов Емельян, приказной казак, потомственный рудознатец и горняк. Казаки по большей части молчат, но, как мне кажется, о цели путешествия догадываются. Сегодня утром, объезжая Верх-Исетский завод, напоролись на патруль из десятка казаков, но с красной лентой на папахах… Я уже было приказал «К бою», как вдруг Алексей Громыко в красном есауле, старшем в патруле, признал своего дальнего родственника – не то свояка, не то сына крестного отца – одним словом, разошлись мы в разные стороны без боя, однако и спин стараясь не показывать…
С пару часов ехали молча, под впечатлением о встрече, как вдруг Громыко прорвало. Смех и слезы, мат и сопли — все в кучу…
— Ваш благородь… – это он мне, – …Да что же такое на свете-то сейчас происходит, а? Я же с ним в детстве на Кисегач за линями ходил… Наши батьки на паях в семнадцатом рудничок покупать собирались, драгу приобрели… А он на меня сейчас, как на последнюю блядь, зыркал, сабелькой поигрывал… Сука!
Чтобы несколько разрядить обстановку, я решил объявить привал, спирта каждому по сто пятьдесят плеснул, приказал спать… В караул сам себя назначил… Костерок развел, рядом прилег… Руки зудят, к бумаге просятся…»
5.
…С трудом стянув с покойного гимнастерку и галифе с лампасами, Савва еще раз поразился тому, что тело подъесаула не разложилось, а высохло: под пергаментно-темной кожей, сухой и шершавой, отчетливо проступала каждая косточка, каждое ссохшееся донельзя сухожилие.
Первым делом Савелий отволок к свежевырытой могиле домовину-долбленку, после – точно такую же тяжелую крышку и лишь потом, на вытянутых перед собой руках, – необычайно легкое тело бывшего казака. Сбросив гроб и крышку в яму, Гридин спрыгнул туда сам и аккуратно опустил тело, поддерживая подъесаула под спину, словно опасаясь, что позвоночник усопшего не выдержит и переломится. Уложив тело в гроб, Савва на грудь его, как мог, разложил кресты и ордена, на миг пожалев, что боевое это серебро и золото через миг безвозвратно будет для него утеряно, но тем не менее ничего не взял и, закрыв домовину крышкой, выбрался наружу.
Солнце уже садилось, и от церквушки и соседних крестов на пожухлую траву упали темные тени.
— Отче наш, иже еси на небесах… — попытался вспомнить хоть одну молитву Гридин, но не сумел и, бросив на гроб горсть глины, сказал просто, от души: — Спи мужик. Судя по наградам, был ты настоящим человеком, не трусом и не сукой. Пусть будет земля тебе пухом… А крест я уж завтра сколочу… Гадом буду, сделаю.
Уложив на образовавшийся холм дерн, разрезанный лопатой на квадраты, Савва постоял минуту, посмотрел на полную масляно-желтую луну, выползшую из-за леса, и, неумело перекрестясь, побрел домой по холодной от росы траве…
Вскипятив на плите печки чайник, Гридин поужинал солониной с медом, запивая мясо голым кипятком. После чего, собрав со стола твердые мясные обрезки — края окорока, бросил их в чайник, а чайник поставил на горячую еще печку:
— За ночь разопреет, станет мягким и не таким соленым… Что ж добру пропадать задаром, — пробурчал он устало и отправился спать в душную (ох уж эта печка!) спальную.
… — Ты уж крестик-то поставь, раз обещался… — опять ночью наставлял Хлыстов разомлевшего Савву. — А то смотри, являться к тебе каждую ночь буду… И панихиду прочти по усопшему рабу божьему Хлыстову Ивану Захаровичу… Прочти, не поленись…
— Да как же я тебе панихиду прочту, мужик, когда я и молиться-то не умею? — не очень-то испугался Савелий и, сбросив с себя жаркую медвежью шкуру, повернулся на другой бок.
— А ты сходи, милок, в церкву, сходи… Там все и найдешь…Сходи, велю…
— Велит он… — хмыкнул зэка, окончательно засыпая…
Раннее утро последующего дня Гридин встретил в чистой и сухой одежде подъесаула, с трудом вколачивая ноги в жесткие, задубевшие, словно колодки, офицерские сапоги.
— Ничего, небось в росе размокнут, пока по лесу брожу, — решил Савва, выходя во двор, поправляя на плече ремень винтовки.
Топор, заботливо наточенный аккуратным Иваном Захаровичем, он засунул за ремень офицерской портупеи толстой тяжелой кожи.
Тайга начиналась сразу же за стеной скита. Но лес, в основном кедровый и сосновый, был светлым и чистым. Золотистые стволы деревьев стояли далеко друг от друга, отчего солнечные лучи вольготно и свободно проникали сквозь шуршащие где-то в выси иглистые кроны. По мягкой подушке мха и опавшей хвои, посвистывая, носились нагловато-любопытные бурундуки, мелькая полосатыми спинками почти у самых ног Савелия, блаженно покуривавшего свою первую утреннюю самокрутку.
Шебурша тонкими цепкими коготками по сосновой коре, вверх и вниз носились по стволам поползни, самоуверенно попискивая и поглядывая на человека удлиненными черными глазками.
Подергивая полупрозрачными розоватыми на солнце ушами, крупный заяц пристроился у кустика княженики, усыпанного красными, схожими с малиной, ягодами.
Гридин сдернул было трехлинейку с плеча, но стрелять передумал: мяса пока еще было вдоволь, а выстрел не дай Бог могли и услышать ретивые лагерные вертухаи.
— Жри, не бойся, — смилостивился зэка и направился к невысокой сосенке.
— Пожалуй, для креста лучше и не надо, — решил Савелий и взял в руки топор.
… А в часовенку Гридин все ж таки заглянул…
Сквозь слюдяные оконца полуденный свет проникал в часовню радостными слегка радужными пучками, ложился на пыльный пол и бревенчатые стены четкими светло-желтыми квадратами.
Убранство часовенки мало чем отличалось от интерьера самого дома, где сейчас проживал непрошенным, незваным гостем Гридин Савелий. Те же бревенчатые стены с тщательно уплотненным мхом меж отдельных бревен, точно такие же скамеечки возле стен и точно такая же неуклюжая печка, сложенная из камня. Лишь небольшой иконостас с десятком почти черных ликов да невысокие перильца с грубо вырубленными балясинами, наверное, огораживающие условный алтарь, – вот, пожалуй, и все увиденные Саввой отличия… Да еще небольшой аналой с лежащей на нем толстой книгой с тремя металлическими застежками, даже сквозь слой пыли блестевшими золотом…
Сава перекрестился, бросил шапку на скамейку и, сдув с книги пыль, щелкнул застежками…
«…Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего Хлыстова Ивана Захаровича.
Отверз уста моя, Спасе, слово ми подаждь молитися, Милосерде, о ныне преставленном, да покоиши душу его, Владыко…»
Малопонятные слова рукописного этого молитвослова с трудом давались Гридину, но он упорно читал и читал, спотыкался, возвращаясь к уже прочитанному, и вновь шел вперед, пока смысл торжественного этого обращения к Господу, вся суть канона за усопшего не легли на его душу, уставшую и замерзшую за годы отсидки.
— Ну, вот и все, дорогой ты мой Иван Захарович, крест я сделал, панихиду справил, как мог, теперь не обессудь: явишься во сне – матом покрою, вот увидишь, — перекрестившись, проговорил зэка и пошел прочь, прихватив стоящий на скамейке бидончик с медвежьим жиром и обожженным фитильком, торчащим из продырявленной крышки…
6.
«…Уже несколько дней подряд идем сквозь болота. Судя по картам, мы находимся где-то в бассейнах рек Лозьвы и Северной Сосьвы. Идем медленно: лошадки измучены дорогой, бесконечными колыхающимися мхами и тучами комаров, мошки и прочего гнуса, кружащего и над нами. Слава Богу, что Емельян Давыдов, таежник и геолог-самоучка, захватил защитные сетки для лиц, но щадя и жалея боевых наших лошадей, каждый из нас держит в руках по тлеющей дымящейся гнилушке: едкий белесый дым хоть сколько-то отгоняет мерзких насекомых от животных.
…Болота довольно однообразные, но иногда на выпуклых островках, среди полярных березок и вереска, нет-нет да и блеснет розовым цветом багульник, корявый и низкорослый в этих местах…
А иногда, среди осоки, изумрудом ряски и тины притягивают взоры бездонные топи… Давыдов (таежная душа) умеет их чувствовать заранее, и мы покамест не потеряли еще ни одного человека и ни одной лошади… Хотя, если отбросить сентиментальщину, лошади в нашем случае не менее, а, пожалуй, и более ценные, чем люди…
Господи, мне страшно от моих таких мыслей… Даже не верится, что они могли посетить мою голову, голову пусть и бросившего обучение, но все ж таки почти что священника… Ужас…Зачем, зачем я согласился на эту авантюру? Но с атаманом Дутовым шутки плохи. Александр Ильич горяч и требует полного повиновения от подчиненных… Одно дело погибнуть на коне, в сражении, там хоть все честно: либо ты, либо тебя… Как уж Богу будет угодно…А почить в Бозе по приговору трибунала где-нибудь возле проссаной стенки в Богом забытом Миассе — нет уж, увольте.
…Наконец-то болота закончились, вышли к реке, довольно многоводной, похоже, Щугору. Казачки соорудили шалашики, и буквально за час возле ближайшего порога, в черной яме, наловили столько хариуса, что его хватило не только на уху и жаркое, но и на копчение, благо братья Поповы в этом были большими мастерами… Что там ни говори, но сухой паек довольно скоро приедается… Достаточно мы его в Германскую пожевали…
Решили здесь, на сухом каменистом берегу, передохнуть основательно, сутки…
Емельян Давыдов намекает мне на необходимость нанять проводника из местных, хотя бы из манси. Стращает какими-то «скрытниками», сектантами-староверами, ушедшими в эти дебри целыми семьями, и очень жестокими к случайным людям, обнаружившим их поселения.
Я не из трусливых, но здесь, в этой бесконечной и глухой тайге, наш маленький отряд перерезать — вопрос нескольких минут…
Наступает ночь, писать уже трудно даже и при свете костра. Назначил часовых и дай нам Бог проснуться утром…»
…Рано утром Гридин, босым выскочивший по малой нужде, вскрикнул от удивления – всюду, куда только ни падал его взгляд, лежал плотный белый иней: и пожухлая, съежившаяся трава, и остроконечный плетень, и древняя корявая береза, растущая возле самого дома, так и неуспевшая сбросить листву, — все сияло молодым, неокислившимся серебром…
Подпрыгивая от холода и нетерпения, зэка помочился и поспешил в дом, где за последние дни уже каждое бревнышко стен, каждая дощечка пола довольно впитали сухого печного тепла…
— …И в чем же вы, господа казачки, зимой на улицу выходили? В гимнастерках? Слабо верится… — прихлебывая кипяток, настоянный на брусничном листке, громко рассуждал Савва, в который раз обходя свой дом…
— Балда слепошарая! — рассмеялся он, увидев возле трубы, уходящей сквозь потолок, маленькую дверцу, ведущую, судя по всему, на чердак…
Две шинели, подпорченные дробью и темными следами высохшей крови, и бешмет из белого шерстяного сукна, подбитый темно-коричневым каракулем, щедро обсыпанные табачной крошкой, покачиваясь на зябком сквознячке, висели на суковатой палке, вбитой поперек крыши…
Бешмет, хоть и был явно великоват Гридину, и от запаха табака свербело в носу, пришелся по вкусу беглому зэка и, оставив шинели на потом, он, обрадованный находкой, выбрался с чердака, белый от пыли и паутины…
— Живем, Саввушка, живем, — с грустью выдохнул Гридин и, не снимая приглянувшейся одежки, присел на скамейку у окна… А за окном, сквозь слюду, еле заметными темными пятнышками кружились редкие снежинки, не ко времени случившегося первого снега.
«…Вопрос с проводником отпал сам собой. Низкорослый, не старый еще, мужичок, ханты, якобы охотник из деревни Мичабичевник, вышел на нашу стоянку, когда мы уже собирались в путь: тушили костер и приторачивали к седлам джутовые мешки с копченой рыбой. В картах он якобы не разбирался по причине малограмотности, но дорогу к Медвежьему камню, а далее к хребту Маньпупунёр и к семи каменным столбам-останцам показать брался, запросив на удивление мало… На своих кривоватых коротких ногах, обутых в шитые стеклярусом и орлиными когтями меховые сапожки, он скоро шёл по лиственничной тайге, двигаясь почти наравне с нашими лошадями.
На третий день Давыдов, притормозив свою гнедую, шепотом выразил опасения, показав на выступающий над тайгой пик каменного Шихана:
— Иван Захарович, а ведь кружит нас проводничок, чтоб я сдох, кружит… Этот утес я еще третьего дня видел… И так же слева, как и сейчас. Вы бы спытали его, ваше благородие, на кой хрен ему это нужно?
Я вытащил компас, подаренный мне генерал-лейтенантом Толстовым, и тотчас убедился в справедливости опасений сметливого Емельяна Давыдова. Впрочем, глазастый ханты, заметив компас в моих руках, видимо что-то заподозрил и, не дожидаясь допроса с пристрастием, поспешил скрыться в пещере, чернеющей метрах в двадцати от нас… Пытаться преследовать его, вооруженного дробовиком, в этой кромешной пещерной темноте было бы полным безрассудством, и тогда обозленные братья Поповы двумя гранатами засыпали вход в лаз, хотя я почти уверен, что из этой пещеры есть еще, как минимум, один выход… Дай-то Бог, чтобы я ошибся… неприятно быть расстрелянным этим аборигеном в спину…
Коварство нашего «проводника» стоило нам несколько лишних дней пути… Одно радует, что здесь, поблизости от высоких уральских хребтов, тайга легкая: деревья, в основном кедры и лиственницы, растут далеко друг от друга. Такое ощущение, что мы находимся не в уральской северной глухомани, а где-то в подмосковном парке, в загородном имении какого-нибудь сиятельного князя или богатого заводчика… Ветерок, свободно струящийся сквозь золотистые стволы, отгоняет комаров и мошку, что также здорово…
Внезапно Емельян взмахнул рукой, и мы, тревожно оглядываясь, подогнали своих лошадок к нему. Перед нами предстал толстенный пень древней лиственницы, срез которого был зачем-то обильно залит желтым воском… Если верить словам Давыдова, в выдолбленном стволе лиственницы хранятся священные книги «скрытников-староверов». Лиственница не гниет столетиями, и в ее стволах, залитых воском, книгам ничего не угрожает – ни вода, ни годы… Одно плохо: подобные схороны сектанты сооружают обычно недалеко от своих поселений. Я приказал спешиться и, взяв лошадей под уздцы, пройти это место тихо и незаметно.
Мы шли по широкой кабаньей тропе, как вдруг урядник Попов Александр, младший из братьев, по-видимому неосторожно наступил на какой-то сучок – ловушку. Обильно пропитанная дегтем веревка змеей взметнулась ввысь, и в тот же миг, ломая хвойные лапы, на него сверху рухнул обрубок бревна, утыканный смертоносными деревянными же шипами. Урядник умер на месте, а его лошадь, которой конец бревна переломал хребет, еще некоторое время, загребая копытом желтую хвою, пыталась подняться, жалобно хрипя и глядя на нас мокрым от слез глазом.
Давыдов, полоснув кобыле по шее, прекратил ее мучения и, отводя взгляд от онемевшего Петра, старшего из Поповых, стянул с головы фуражку. Мы последовали его примеру, и лишь побелевший лицом старший урядник грохнулся на колени перед братом и, что-то бессвязно мыча, пытался с искалеченного тела сбросить утыканное шипами бревно…
— Упокой Господи душу безвременно погибшего Александра Владимировича Попова… Аминь…»
7.
Выпавший так рано снег сошел на следующий день, но ежеутренние заморозки говорили сами за себя: осень прошла, того гляди, грянет и зима. Зима…
…Несколько суток подряд метель завывала голодной сукой-волчицей, швыряя в слюдяные оконца пригоршни жесткого, колючего снега. Гридин во двор почти не выходил, разве что прихватить охапку дров из поленницы, запасливо заготовленной казаками, да за соленой рыбиной или же медом… Все эти дни Савва проводил в постели: лежал, с тоской глядя в низкий потолок, слушал завывание ветра да треск промороженных дров в печке, разговаривал сам с собой, философствуя ни о чем, читал записки подъесаула Хлыстова и отчаянно тосковал…
Когда пурга закончилась, и на дом обрушилась полная, звенящая тишина, Савелий как бы даже и расстроился: настолько органично вписывались тоскливые завывания ветра в мирные домашние звуки. А вот утихла метель, и скит ровно осиротел: тишина давила на зэка во сто крат сильнее пьяных криков барака, высокомерного громкого мата накуренных вертухаев…
Тщательно упаковавшись в теплый бешмет и сапоги, в лагерную свою шапчонку, с винтовкой на плече, Гридин вышел во двор. Глаза резануло: казалось, яркое, огромное солнце одновременно отражалось в каждой снежинке… А снежинок этих тысячи, сотни тысяч! Плетень почти полностью замело, и теперь вокруг дома возвышались неправдоподобно красивые, сияющие барханы… Снег поскрипывал под ногами, но было не холодно: полное безветрие и солнце… И тишина… Казалось, всеобщий вселенский мир воцарился над скитом, засыпанным снегом, словно некто всесильный и всемогущий распростер свои длани, и никто, совершенно никто не посмеет не то что нарушить этот дрожащий от солнца и тишины мир, а даже и помыслить об этом… Отбросав от калитки толику снега (лишь бы протиснуться), Савва приторочил к своим сапогам надыбанные на чердаке странные, короткие и необычайно широкие, лыжи, подбитые желтоватым мехом. Несмотря на внешнюю неказистость этих «снегоступов», по глубокому снегу шлось в них довольно ходко, даже и без палок…
Тишина в тайге обманчива и только на первый взгляд кажется полной: вот треснул с сухим ружейным звуком промороженный березовый ствол, вот захлопали где-то вдали, за молодым ельничком, спугнутые кем-то неуклюжие куропатки, а вот заскрипел предательски снег, зашуршала сухой пробкой сосновая кора — сохатый прет через тайгу… Куда прет, зачем, кто знает?
Гридин прижался спиной к торчащему из снега валуну, кварцевому обломку в два человеческих роста, снял шапку и, подставив вспотевшую, исходящую бледным паром голову под лучи солнца, бездумно прикрыл глаза, отдыхая, впитывая всем своим существом покой и свободу…
Солнце пробивалось сквозь опущенные веки розовым, и Савелию хотелось верить, что теперь уж точно вся его оставшаяся жизнь пройдет в точно такой же розовой, покойной тишине…
Зэка встрепенулся, широко зевнул и, растопырив руки, оторвался от валуна: решил пройтись туда, к ельничку, за куропаткой, как вдруг со стороны тайги раздался одиночный, тоскующий волчий вой, к которому вскоре присоединился еще один, потом еще и еще… И вот уже вся волчья стая, казалось, зашлась воем, страшным, голодным и с каждой минутой все более и более громким.
— Суки! Суки! Суки… — в исступлении зашелся Гридин и, схватив ружье, выстрелил дважды в синее, неправдоподобно синее, глубокое небо…
…Он бежал в сторону спасительного скита, бежал, загнанно оглядываясь, глотая обжигающий горло воздух вперемежку с горькой, тягучей слюной, отчетливо соображая, что против целой стаи голодного зверья здесь, в лесу, даже и с карабином, ему не совладать…
— Суки! — задыхаясь, прохрипел Савва, обессиленно вваливаясь в дворик скита. – Суки, — обиженно повторил он в голос, непослушными пальцами запирая калитку на заиндевелую щеколду. — Такой день…
А темные, высоко подпрыгивающие из-за глубокого снега силуэты волков уже показались у края леса. …Их было много… Перестроившись на бегу в цепочку, стая начала огибать обнесенный плетнем скит… Плотный пар при каждом выдохе зверья вырывался белыми облачками из ощеренных волчьих пастей. Волки как-то вдруг, уж очень дружно, оборвали вой, но от этого приближающаяся стая показалась Гридину еще более страшной…
С каким-то странным, несколько даже радостным, воодушевлением, словно после доброго стакана неразбавленного спирта, он забежал в дом, схватил в охапку все винтовки и, засыпав в карманы по горсти чуть слышно звякнувших патронов (благо цинковая коробка с ними стояла тут же, под скамейкой), выскочил во двор. Не раздумывая, повинуясь своему инстинкту, быть может, не менее древнему, чем у волков, Савелий, приставив лестницу, забрался на крышу стоящего во дворе схорона, в котором, кроме пары пересушенных, пересоленных щук да капелюхи меда, ничего уже не осталось… Отбросив сапогом лестницу, зэка усмехнулся, ожидая появления хищников во дворе.
— …Ничего, ничего, падлы! Идите, идите, а то что-то я вас заждался… Ну, где же вы?! – уже ничего не соображая, словно в горячечном жару, кричал Гридин, пристраиваясь на скользкой, заснеженной покатой крыше.
Громкий треск ломающихся кольев плетня заставил Савелия резко повернуться. Крупный лось, с роскошными рогами на гордо поднятой голове, грудью проломив плетень, ворвался во двор скита, глубоко пропоров при этом заостренными кольями и прутьями брюхо возле паха. Сделав несколько беспорядочных кругов по заснеженному двору, смертельно раненое животное упало возле крыльца, и несколько раз дернув мощными, длинными ногами, затихло. От осклизлых сизо-красных кишок, вывалившихся на снег, пахло горячей кровью и свежим навозом…
Волки, почуяв свежую кровь, уже более не опасаясь, ринулись в широкий пролом… До этого случая Гридин видел волков только в детстве, в зоопарке, но там, в тесных грязных вольерах, они напоминали скорее беспородных дворняг, линялых и худосочных. Эти же, взросшие на воле, на свежеубиенной добыче, были не в пример мощнее и выше в холках. Первым прорвался во двор крупный темно-серый кобель и, не обращая внимания на сидящего на крыше «скворечника» человека с ружьем, рванулся к сохатому, проглатывая на бегу пропитанный кровью снег. Выстрел и громкий визг вожака стаи слились в нечто страшное, рвущее на части душу и уши возбужденного зэка. А тот, уже более не обращая внимания на недобитого волка, стрелял и стрелял во все прибывающих и прибывающих хищников. Он и сам уже, похоже, превратился в хищника, злого и беспощадного, троекратно подстегнутого собственным животным страхом. Это была не охота… Это была бойня… Выстрелы, пороховой едкий дым, отборный радостный мат торжествующего каторжанина и взвизгивания убитых и только раненых волков, переплетаясь, превратились в дикую первобытную какофонию торжества человека над зверем.
Скоро, до обидного скоро все закончилось… Несколько уцелевших волков и легких подранков, пачкая снег пятнами крови и мочи, подвывая от обиды и боли, скрылись в лесу. Гридин же, мокрый от пота и перевозбуждения, все еще не решаясь спуститься вниз, одиночными прицельными выстрелами добивал лежащих на истоптанном, темном от кровавых проталин снегу волков.
Спрыгнув вниз, Савва, с трудом переставляя все еще дрожащие ноги, направился в дом за топором (лося было необходимо разрубить на части и, покамест еще не слишком темно, забить мясом эту хитроумную кладовочку… Но сначала все ж таки закурить… Или помочиться?!
8.
«Похоронив Александра Попова, мы уже вчетвером двинулись дальше в горы. Но по тропам теперь старались не двигаться, благо лес с каждой верстой становился все реже и реже. Высочайшие кедры, лиственницы и сосны уступили место корявому низкорослому кедрачу да странно изогнутым, также очень низеньким березам. Копыта наших лошадей все чаще и чаще начинали скользить и разъезжаться на гранитных и базальтовых валунах, поросших толстым, всегда влажным мхом… По совету Емельяна Давыдова мы вновь спешились и шли впереди лошадей, выбирая путь. Неожиданно лес оборвался, и мы оказались на плоской, будто искусственно выровненной каменной площадке, размером разве что чуть меньше, чем плац при Екатеринбургских гренадерских казармах, с десятком небольших округлых луж…
Давыдов вдруг неизвестно чему обрадовался и, подбежав ко мне, взмолился:
— Ваше благородие, разрешите объявить банный день. Сколько ден уже не мылись, как бы не обовшиветь.
Я было удивился, но он тут же подвел меня к ближайшей луже и, погрузив в нее руку по локоть, объяснил, что это на самом деле каменные чаши и в них собирается талая или дождевая вода, очень мягкая и теплая в это время года. Я пригляделся и не мог не согласиться с ним. Чаша была довольно глубокая, а вода в ней и в самом деле была очень теплая, особенно в сравнении со студеными водами горных рек, виденных нами ранее.
Уже через четверть часа мы все неглиже лежали в этих самых каменных чашах, покуривая папиросы и лениво переговариваясь, а наше обмундирование, хорошенько прополосканное, сохло рядом на нагретых камнях, овеваемое теплым ветерком, дующим с юга с завидным постоянством.
Опасаясь ночного нападения местных лихих людишек, мы решили устроиться здесь же, на этом ровном каменном плато. Оделись в высохшее белье и обмундирование и, перекусив копченой рыбой, легли отдыхать. Я присел у единственной тропы, ведущей к нашему бивуаку, и при затухающем свете солнышка написал эти строчки…
Господи, когда же все это закончится? Чем дальше мы забираемся на север, тем явственнее я понимаю, что предприятие наше бесполезное, и красных нам скорее всего не переиграть… Поздно, похоже. Поздно…»
На дворе почти стемнело, когда Гридин закончил наконец-то с разделкой лосиной туши. Куски мяса быстро замерзали на морозе, и в кладовку Савва их уже закладывал твердыми как камень. Несмотря на кажущиеся небольшие размеры кладовочки, лось, разрубленный на части, вошел практически полностью. Лишь голова с раскидистыми рогами осталась валяться в окровавленном снегу возле деревянной колоды (Савва просто не знал, что с ней сделать). Желудок сохатого Савелий, хорошенько промыв в ледянючей воде, прямо в ведре поставил вариться на печь, на всю ночь… Когда Савва был еще маленьким, их домработница, баба Клава, живущая в их же квартире, частенько готовила сочные рулетики из говяжьего рубца…
Застывшие, твердые, словно поленья, тела расстрелянных волков зека уже затемно оттащил ближе к лесу и сбросил в небольшой овражек… О том, чтобы содрать с них шкуру, Гридин даже и не подумал, скорее всего, он просто и не сумел бы это сделать…
А ночью, когда он расслабленно лежал на постели и блаженно прислушивался к бульканью бульона в ведре с кипящим рубцом, к нему опять явился подъесаул Хлыстов.
Присев где-то в ногах, в тени от печки, он со смешком осведомился, слегка покашливая:
— Ну что, раб божий Савелий, одиноко?
— Одиноко, — зэка, казалось, совсем не удивился странностям этой беседы с давно уже усопшим подъесаулом. – Ну, а тебе что все неймется, старый? И закопал тебя, и крестик поставил, и панихиду даже справил… Чего тебе еще?! Зачем приперся-то? Да и имя мое откуда узнал, а?
— Эх ты, варнак беглый… Приперся… Просто пришел поболтать с тобой, за жизнь, так сказать… Мне ведь там тоже не ахти как весело…
Старик легко поднялся и, уходя за занавеску, вновь повторил ворчливо:
— Варнак, он и есть варнак…
А Савелий после событий с волками совсем затосковал. Все чаще он заходил в часовенку, подметал пол, тряпицей протирал иконы, зачем-то протапливал печь и уходил, громко, со злостью хлопая ветхой дверью… Часами зека сидел на берегу замерзшей реки, конопатил и ремонтировал для чего-то рассохшуюся лодку, а то, пробив небольшую полынью возле берега, пробовал мыть золото в самолично грубо сработанном лотке…
Золота было много… Иной раз в лотке среди золотого песка выкатывался и самородочек, пусть и не очень большой, а все-таки… Гридин равнодушно ссыпал золотой песок вместе с самородками в большую жестянку от монпансье, найденную в церкви, и иногда, когда совсем уж сон не шел к нему, измотанному одиночеством, Савва зажигал фитиль лампы-бидончика и часами перебирал золото пальцами, скорее всего бездумно, механически…
А однажды он поймал себя на странной мысли, что, может быть, и не стоило уж так цепляться за свою никчемную жизнь в схватке с волчьей стаей…
— Да кому нужна такая жизнь, волчья?! – думал он, час за часом бесцельно мотаясь по жарко натопленной комнате. — Прав был Иван Захарович, ох как прав… Варнак я и никак иначе… Варнак…
«… Плато с каменными чашами осталось позади, а впереди одна сплошная неизвестность. Лошадей и большинство припасов мы были вынуждены оставить под присмотром старшего урядника Петра Попова, все равно после гибели брата он стал ровно малахольным, разговаривал сам с собой, частенько хватался без причины за оружие, часами плакал. А мы, с мешками на спине, вступили на узкую, уступчатую тропку, шедшую по самой вершине хребта, чем-то напоминающего разрушенную стену древнего замка. Лошадям по тропе этой пройти не представлялось никакой возможности… тем более груженым, с седоками.
Едва мы поднялись на несколько метров вверх по тропе, как на нас обрушился резкий холодный ветер, от которого до этого нас спасали высокие скалы. Камень под нашими ногами местами покрывали мхи, замерзшие и опасно скользкие. Идти поодиночке было чревато, и мы обвязались длинной и прочной веревкой. Хребет скоро, через пару верст, повернул налево, и нам наконец-то открылся вид на те самые, столь долгожданные семь каменных столбов-останцев. Я, шедший во главе нашего маленького отряда, остановился, пораженный увиденным… Зрелище и правда было необычайно завораживающим. Вид семи отдельно друг от друга стоящих черных скал, рвущихся в небо на фоне кроваво- красного заката и темнеющей внизу волнистой тайги, даже у нас вызывал необъяснимый ужас вперемешку с восторгом, а что уж говорить про местные, по большей части практически первобытные племена.
У подножия одного из столбов, в пещере, якобы и находилось то, ради чего мы забрались в этакую глушь, ради чего уже погиб один человек, а сколько еще погибнет, одному Богу известно… Укрывшись за небольшим каменным уступом, испещренным древними рисунками, мы, запалив небольшой костерок, устроились худо-бедно на ночлег.
Господи, что нас ждет завтра? Помоги, Боже, рабам твоим: Ивану, Петру, Емельяну и Алексею. Аминь…»
9.
…Из куска лосиной шкуры, тщательно отчищенной и обклеванной синицами и поползнями, Савелий сшил нечто схожее с рюкзачком, держал его в доме, в углу под иконами, и ссыпал в него золото, как только баночка от карамели вновь наполнялась…
Лодку Гридин, как смог, подлатал: большие щели забил тонкими кедровыми плашками, проконопатил ее мшистыми жгутиками, пропитанными лосиным жиром. Вместо краски, ученый жизнью зэка, за несколько приемов, сварил жутко вонючую, но вроде бы стойкую пасту из смеси кедровой живицы и медвежьего жира, коей и обмазал лодку со всех сторон толстым, быстро загустевшим слоем.
Подъесаул Хлыстов в последнее время что-то зачастил… Раньше он приходил изредка, да и то только по ночам и задерживался ненадолго, теперь же посещения надоедливого старика стали практически ежедневны. Голос его, негромкий, но упрямый, не терпящий возражений, доставал Савелия везде, где бы тот ни находился. И хотя Гридин иногда и пытался, резко повернувшись, поймать назойливого собеседника, но за спиной зэка, как всегда, никого не оказывалось — хитроумный казак успевал скрыться, чтобы через мгновение очутиться уже совсем в другом месте. По первости эти назойливые беседы раздражали Савелия, но через пару-тройку недель он настолько свыкся с наставлениями неугомонного подъесаула, что уже начинал скучать, если не слышал, не ощущал его присутствия хотя бы с час…
— Ну и зачем ты, детинушка, золотишко все моешь и моешь? Что тебе оно, тем более здесь, в глуши, когда за весь свой мешок ты не то что бабу, например, или там собаку какую-никакую не купишь, но даже и хлебца или, положим, картошечки и то не укупишь?.. Брось, говорю, лоток, брось… Сбегай-ка ты, паря, лучше к вон тем рябинкам, я там в свое время глухарей снимал от души… Надоела небось сохатина?
Савва, ни слова не говоря, красными от студеной воды пальцами выбирал тускло блестевшие золотинки и мелкие, как дробь, самородки в жестянку и, прихватив винтовку, шел за несколько верст к указанным рябинам. Глухарей там, естественно, не оказывалось, и лишь большая стая клестов нехотя поднималась с кривеньких, уже полуобъеденных деревьев.
— Вот же сволочной старикашка, опять надул! — сплевывал с досадой в очередной раз ошельмованный мужик и пустым возвращался к скиту… От тетрадочки осталось всего несколько листочков, и Савелий выточил из орешника трубку с длинным отполированным мундштуком… Обкуривая трубку, Гридин исходил надсадным кашлем, сходным с собачьим лаем. Вытирая ладонью сопли и выступившие слезы, зэка материл понапрасну старика Хлыстова и, прочитав толику его записок, скручивал «козью ножку», которую тут же выкуривал с видимым удовольствием…
«…Утром мы, мокрые от обильной росы, позавтракали рыбой и начали спуск к еле заметным в плотном молочно-белом тумане утесам. Идти приходилось очень осторожно, ноги нещадно скользили на влажных и частенько неверно качающихся камнях.
У подножия первого из семи каменных столбов-останцев, я, как и было уговорено с атаманом, сломал красный сургуч и вскрыл пухлый, упакованный в плотную серую бумагу пакет.
В нем оказались две заношенные остроконечные «Богатырки» с красными звездами, красноармейская линялая гимнастерка и небольшой конверт.
“Господин подъесаул, коли вы вскрыли сей пакет, значит, ваш отряд уже у цели. Может быть, вы посчитаете мой приказ приказом выжившего из ума человека, но заклинаю вас сделать все, о чем я вас прошу. Иван Захарович, у подножья второго столба, если идти с юга, должна находиться пещера, в которой вот уже несколько сот лет хранится так называемая Золотая баба, предмет поклонения почти всех уральских, сибирских, алтайских и северных народов-идолопоклонников. Что это за баба, как она выглядит, я не имею ни малейшего представления, да это и не важно, а вам, Господин подъесаул, надлежит либо вывезти эту реликвию, либо уничтожить ее, а на месте, где она находилась, оставить эти предметы красноармейского обмундирования. Вы, может быть, сочтете это полной глупостью и пустяшной, детской затеей, но, зная мстительные характеры аборигенов вышеупомянутых мест, я хочу, чтобы у красных сволочей, кухаркиных детей, возомнивших себя хозяевами России, под ногами горела земля сибирская… И да хранит вас Бог. За сим Атаман Оренбургского казачьего войска Дутов Александр Ильич. 5 мая 1918 года от рождества Христова”.
Прочитав письмо атамана, я закурил и пустил бумагу по кругу. И хотя, после беседы с генерал-лейтенантом Толстовым, я предполагал нечто подобное, но теперь, здесь, вся эта затея мне все меньше и меньше нравилась…
-…Ох, бля!.. — вскочил на ноги сидевший до этого на пне Давыдов. — Да на хрена нам все это нужно?! Если мы эту чертову куклу украдем, или тем паче порушим, то не у большевиков, а у нас под ногами земля запылает, и нам уже из тайги живыми не выбраться. В этих гаях и сгинем…
Громыко Алексей также был против плана, задуманного Дутовым.
— Ваше благородие, Иван Захарович, ну ее к лешему, бабу эту… Возвернемся назад, пока Бог хранит… А уж что сказать атаману у нас еще будет время…
В душе я был полностью согласен с товарищами, но уйти, хотя бы краем глаза не взглянув на эту «Золотую бабу», я просто не мог.
— Сделаем так.
Давыдов и Громыко щелкнув каблуками, вытянулись.
— Я сейчас схожу один, посмотрю на идола этого, и через час начнем восхождение на плато…
Я, отбросив красноармейскую одежку в сторону, не оглядываясь, направился ко второй скале.
Высоченная, более трех метров, фигура грубо вырезанной из дерева женщины с обвислыми грудями сидела на большом плоском камне. Толстые, выпирающие губы были черны от высохшей крови, а в руках у нее покоилось широкое блюдо, чуть ли не медный таз, доверху заполненный золотыми монетами и грубыми украшениями… И справа и слева от идола, вдоль стен, покрытых халцедоном натечным, навалом лежали десятки, сотни отрубленных по локоть рук. Многие из них явно лежали уже не один десяток лет, высохли и сморщились, но от некоторых шел ни с чем не сравнимый запах гниения… Рой черных, отливающих зеленью мух, жужжа, поднялся над этими страшными трофеями (а может, жертвоприношениями?) при моем приближении. Я, человек истинно верующий в Бога, даже под расстрелом вряд ли бы согласился на уничтожение этой, пусть языческой, но все равно почитаемой людьми, святыни…
Я выскочил из пещеры, и, как оказалось, вовремя. В том направлении, где остались мои казаки, слышались глухие выстрелы наших винтовок и раскатистые — дробовиков… Подбежав к товарищам, я понял, что они отстреливаются вслепую, не видя противника, а те, напротив, из густых зарослей малины и морошки стреляли прицельно, наверняка. И у Давыдова, и у Громыко уже кровоточили небольшие, но болезненные раны от крупной дроби местных охотников. Выстрелив пару раз в сторону кустов, я, а следом и оба приказных бросились к тропе, ведущей на плато, пригибаясь к земле и петляя на бегу… Крупная дробь еще долго царапала камни, за которыми мы прятались, пока короткими перебежками поднимались в гору.
— …Кажись, оторвались, ваше благородие, – прохрипел Давыдов, выскакивая на плато и бросаясь к своей лошадке, коротко заржавшей при виде хозяина…
«Да, оторвались, — подумал я, направляясь к встречающему нас старшему уряднику Петру Попову. – Оторвались… Надолго ли?»
10.
…Зима явно шла на убыль. У кедра лохматые лапы несколько приподнялись от земли и изогнулись – нет более верной приметы, что дело идет к весне… Да и без кедра все было ясно: конец зиме, конец…
“…Что затуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой!
Что призадумалась, девица красная,
Очи блеснули слезой!”
— Ну, ты, дед, даешь, — хмыкнул Савва и резким тычком вогнал жало топора в доску крыльца. – Мало того, что ты и так со мной ежедневно болтаешь, ровно живой, так теперь еще и петь надумал…
Он сидел на просохшем под солнцем крыльце босой, подстелив под ноги кусок лосиной шкуры: солнце солнцем, но снег даже во дворе пока еще полностью не сошел — прохладно…
— Ну, так что же, Савушка, — в голосе Хлыстова явно чувствовались виноватые нотки. — Я, понимаешь ли, песню эту очень любил. Иной раз скачешь по степи, долго, день почитай из седла не встаешь, да если еще шашкой от души намашешься, а вот запоешь не громко, для себя, вполголоса, и веришь – как будто и не уставал… Сам не знаю отчего…
“…Много за душу твою одинокую,
Много я душ погублю;
Я ль виноват, что тебя черноокую
Больше, чем душу, люблю!”
Гридин, все так же улыбаясь, отложил свежеструганное весло, сгруппировался, словно кошка перед прыжком, и, оттолкнувшись босой пяткой от обиженно скрипнувшей доски крыльца, резко повернулся… Как всегда, Господин подъесаул (до чего же скор, старая сволочь!) обманул Савелия: ни на крыльце, ни в полутемных сенях никого не было. Лишь наглый смешок раздался где-то за углом. Зэка фасонисто, по-блатному цыкнул слюной сквозь зубы и, смахнув ногой с крыльца золотистые стружки, пошел в дом. Громкий, протяжный треск, ударив в спину расслабленного зэка, бросил его испуганного на пол. Треск повторился, но на этот раз еще более громкий и резкий, и Гридин сообразил, что это может быть не что иное, как начало весеннего ледохода. Натянув кое-как сапоги на босые ноги, он, проваливаясь по колено в жесткий, крупчатый снег, поспешил к реке. Зеленоватый лед от берега до берега пересекала крупная извилистая трещина толщиной в руку. Лед, на изломе толстый и блестяще-влажный, отливал бутылочным стеклом, радостно поблескивал, разбрасывая тонкие радужные лучики…
— Господи, наконец-то весна! – Савелий обессиленно присел на перевернутую, загодя перенесенную выше на берег лодку и, облокотившись на ее округлое рубчатое дно, громко трубно высморкался… — Весна…
«…Без лишних слов, мы взобрались на лошадей и направились к тропе. Цокот копыт заглушил звук выстрела снайперской, по-видимому, винтовки, пуля рассерженной пчелой пролетела над головой моей лошади и с явственным чмоканьем вошла уряднику Петру Попову, ехавшему по правую от меня руку, в живот, чуть выше пряжки ремня. Мужик ойкнул и, зажав растопыренными пальцами тут же почерневшую от крови гимнастерку, откинувшись назад, упал под ноги своей кобыле. Кровь, просочившись между пальцами, попала в ближайшую каменную чашу и, извиваясь розоватыми кудрявыми завитушками, растворилась в воде.
Спрыгнув с коней, мы попытались перебинтовать раненого, но тот, вдруг решительно вырвавшись из наших рук, приподнялся и проговорил, тихо, но внятно, сощурившись куда-то в сторону обрыва:
— Тише, братцы, тише. Неужели вы не слышите? Ну…
Мы непроизвольно прислушались, но, кроме шума ветра да вороньего карканья откуда-то снизу, из зеленеющих под нами крон деревьев, ничего не услышали…
Петр приподнял окровавленную руку с вытянутым указательным пальцем и, улыбнувшись посиневшими губами, прошептал:
— Сашка, Сашка меня зовет, а вы здесь расшумелись… Тише Христа ради…
И неожиданно шагнув к обрыву, круто уходящему вниз, не мешкая, шагнул в пропасть.
…Вот уже несколько дней, мы, практически не слезая с коней, бежим сквозь враждебную тайгу на юг, лишь иногда давая им часовой роздых. Несколько раз наш небольшой отряд обстреливали невидимые нам люди. Чем эти охотники смазывают дробь – неведомо, но ранки необычайно быстро загнивают и очень болезненны… Гной вместе с сукровицей сочится не переставая, а целебные листья подорожника нам покамест еще не попадались. Давыдов иногда примечал поднимающийся над гаем дым сигнальных костров, и мы вынуждены были обходить засады за несколько верст… Преградившая нам путь пока еще бурная, полноводная по-весеннему река принесла нашему отряду неожиданное спасение. Мы заметили, как ниже по течению к берегу причалил местный рыбак и, вытащив на камни свою лодчонку, с веслами на плече исчез в кустах… Было очевидно, что бурную реку эту с лошадьми нам не осилить, а оставаться на берегу было смерти подобно, и мы вместе с Давыдовым и Громыко, привязав бедных, преданных животин к осине, забрались в лодку и, оттолкнувшись от берега, отдались на волю волн и Божьему расположению к нам… Простите нас, лошадки… Надеюсь, вас найдут скорее наши преследователи, чем оголодавшие волки или рыси…»
Гридин кое-как слепил из ивовых ветвей нечто схожее с мордой, побросав в нее остатки мяса и костей, и далеко, насколько хватило сил и бечевки, закидывал ее в воду. Хоть какое-то, но дело, удерживающее его возле практически освободившейся ото льда реки… Теперь Савва как бы «на законных основаниях» (как же, ловля рыбы дело нужное, все лучше, чем дома в четырех стенах сидеть), блаженно щурясь, часами поглядывал на черную воду с большими ледяными кляксами, медленно проплывающими мимо него… На мясные объедки рыба зарилась редко, но зато теперь, практически каждый вечер, Савелий варил крупных раков до оранжевого свечения и ел их, запивая черным травяным настоем…
Все бы хорошо, но одуревший от одиночества зэка явно чувствовал, что еще немножко, совсем чуть-чуть, и он сойдет с ума…
А тут еще проклятый казак со своей нескончаемой, унылой песней…
11.
«Товарищам моим совсем плохо. Я не врач, но мне кажется – у них все признаки гангрены. Вокруг ранок от дроби – огромные, с ладонь, багрово-сизые пятна, от ран дурно пахнет. Жар…
Отсутствие весел сказывается на скорости хода лодки. Первое время я еще пытался подгребать ладонями, но, поняв тщетность подобных действий, плюнул и, пересев на нос лодки, лишь иногда с трудом направлял её в ту или иную протоку, коими богата эта безымянная река. Молю бога, чтобы нам не попались пороги: без весел мы однозначно приговорены…
Сколько дней мы плывем, я уже точно и не скажу…
Сегодня ночью умер Давыдов Емельян. Я спал и не видел этого, но, обнаружив его тело, изогнутое дугой на дне лодки, догадался, что он, наверное, страшно мучился перед кончиной… Громыко Алексей пока еще жив, но бредит не переставая, плачет и зовет матушку…
Господи, упокой душу усопшего раба твоего Емельяна, а нам дай шанс выжить… Голова кружится, ежеминутно хочется пить… Боюсь, что и у меня жар…
Лодку прибило к берегу, и я, увидев шедшую от песка тропку, пошел по ней… Каково же было мое удивление, когда на небольшой поляне совсем недалеко от реки я увидел старенькую часовенку и небольшой домик поблизости от нее. Господи, неужели там люди? Православные?..
Скит оказался заброшенным, хотя и не разграбленным. Хорошо хоть это… Перенес Алексея Громыко в дом, а Алексея в часовню…
Передохну и займусь похоронами… Спасибо тебе, Боже, за милость твою… Спасибо»
Самокрутку, свернутую из последнего листочка записок подъесаула Уральского казачьего войска Хлыстова Ивана Захаровича, Гридин искурил на берегу реки… Выбросив окурок в мутную, глинистую воду, он уже было собрался идти домой, как вдруг заметил на небольшой, чуть более крышки стола, плывущей льдине что-то черное.
— Неужто косуля, — обрадовался Савва. Мясо уже подходило к концу, а в лес он идти побаивался: опять по ночам частенько слышался волчий голодный вой. Судя по всему, в этих местах вновь появилась стая.
Плюнув на холод, Савелий, прихватив длинную коряжину, валяющуюся на берегу, вошел в воду. Провалившись по грудь в студеную реку, он зацепил палкой льдину и аккуратно, не торопясь, начал подтягивать ее к берегу. На хрупкой, неверно покачивающейся льдине лежала, свернувшись в комочек, молодая женщина, скорее даже девушка, в темном пальтеце и промокших валенках.
— …Ах, еб… — начал было ошарашенный зэка, но тут девушка приподнялась надо льдом и, упершись в холодное крошево красными, озябшими руками, посмотрела на него удивительно крупными зеленоватыми глазами…
— Дедушка, дедушка… — лицо ее сморщилось в плаче, и она вновь упала на лед, сотрясаясь в рыданиях, горьких и беззвучных…
…Подбросив в печку дров, Гридин положил девушку на медвежью шкуру своей постели и рывком, неуклюже и грубо стащил с ее плеч промокшее, отяжелелое пальто. Легкое платье и поношенная шерстяная кофточка, еле сходившиеся на округлом ее животе, также были пропитаны холодной, талой водой.
Отбросив неожиданно возникшее чувство неловкости, Савелий, не обращая внимания на робкие, бессвязные протесты девушки, раздел ее догола и грубой, жесткой своей ладонью начал растирать по шершавому, в морозных пупырышках тельцу размякший возле раскаленной печки медвежий жир, гадая мысленно, как, отчего эта беременная девушка оказалась на льдине, на реке…
— Никак на сносях бабенка?! — ехидно поинтересовался у него за плечом вездесущий Хлыстов.
— Глядишь, через месяц родит… Что делать-то будешь, паря?
— Не знаю, отстань за ради Бога, — отмахнулся от казака Гридин и, аккуратно перевернув девицу на бок, растер жиром ее спину, ягодицы и ноги, вплоть до маленьких, розоватых пяточек…
— Смотри, милок, вдруг что не так пойдет, или, того хуже, вдруг при родах отойдет… Что тогда? Мясом дитяти кормить станешь?
— Да что ты раскаркался, ваше благородие?! — взорвался зэка, выпрямляясь. — Сам знаю, к людям нужно. Но не сегодня, и не завтра, а как приспичит, так и поеду…
— Дедушка! Дедушка, а кто меня вчера раздел?
Савва тяжело проснулся, приподнялся с брошенной на пол рухляди, где проспал остаток ночи, и ошалело уставился на беременную девицу. Она уже успела одеться в свое хоть и мятое, но высохшее платьице и выглядела необычайно мило, по-домашнему.
— Да какой я тебе дедушка? — Савва обиженно засопел и, запахнувшись в потрепанный уже бешмет, присел на лавочку. – Мне, девочка моя, всего-то сорок два скоро будет… А ты: дедушка…
Она, прыснув, присела рядом и тонкими пальчиками прикоснулась к его всклокоченной, черной, с редкими седыми пучками бороде.
— А это что, дяденька?
Зэка почесал буйную, неухоженную свою бородку и, тоже смеясь, ответил, глядя в зеленую бездонность ее глаз:
— Да понимаешь, девонька, не могу я, несподручно как-то бриться без зеркала, да к тому же саблей… Ну не умею…
Она посмотрела на арсенал, развешанный на стене, и в голос рассмеялась, весело и беззаботно…
…Девушка странным образом довольно быстро освоилась в по-холостяцки не обустроенном жилище Савелия. Придерживая крупный живот рукой, она проворно носилась по избе: там подметая, там вытирая, там что-то скобля до блеска… Девушка была из разговорчивых, и часами не умолкал ее высокий веселый голосок, но стоило Гридину поинтересоваться, кто она такая и откуда, тут же умолкала и могла после этого часами молча сидеть на крылечке, укутавшись в просторную и теплую казачью шинель…
Всю тяжелую работу по дому, будь то ходить за водой или же дровами, Савва старался выполнять сам, но девушка, словно верная собачонка, потешно переваливаясь перекормленной уткой, всюду сопровождала хозяйственного мужика.
— Дядя Савелий, — пристала она как-то к нему, когда он, скользя по влажной глине и шепотом матерясь, пер в горку полное ведро мутноватой воды, — а ты почему здесь живешь совсем один? Ты, что ли, староверец? От людей ушел? К Богу?..
— …Ага, варнак, попался… — встрял в разговор язвительный Иван Захарович. — Ну и что ты ей теперь на это ответишь, кем назовешься: баптистом или геологом? – Господин подъесаул хрипло рассмеялся и закашлялся глухим, удаляющимся кашлем.
— Нет, зоренька, — обреченно признался ей зэка, вновь хватаясь за дужку ведра. — Никакой я не баптист, да и геолог я тоже никакой… Вор я, девочка. Вор. Самый что ни на есть обыкновенный квартирный вор… А теперь к тому же и беглый…
Девушка умолкла, приотстав, расстроено поглядывая на ссутулившегося Савелия.
— …И давно ты тут прячешься, Савелий Александрович? — зэка скорее догадался, чем услышал ее, семенящую где-то позади него. — Давно?
— Кому как, — Савва распахнул перед ней плетеную калитку.
— Кто-то, быть может, и годами в бегах прожить может счастливо, в ус не дуя, а мне эти мои восемь месяцев большим сроком показались…
…Они сидели на лавке, возле остывающей печки, не зажигая света и молчали. О чем думала эта молодая и, надо полагать, из-за беременности ставшая такой чуткой женщина, он знать не мог, а сам, глядя на темные окна, все никак не мог решить: правильно ли он сделал, во всем ей признавшись, или же нет?
— Может быть чайку, дядя Савва? — нарушила она молчание и поднялась с лавки, подошла к накрытому деревянной крышкой запотевшему ведру…
Нагнувшись, девушка зачерпнула чайником воду, как вдруг рухнула на колени и часто-часто, словно старая сука-дворняга в полуденную летнюю жару, задышала широко раскрытым ртом, а потом, отчаянно схватившись за живот, с криком упала Савелию в ноги…
— Да ты что, родная?! — засуетился тот и попытался приподнять роженицу.
— Ой, йёй, йёй, больно, больно мне! — запричитала она как-то уж очень по-бабьи, прозрачной ладошкой вытирая с лица обильно выступивший пот.
— Потерпи, потерпи родная, завтра по утру ко врачу поедем… У меня лодочка есть… Как знал, на днях весла справил… Потерпи рожать, кому говорю, потерпи… У меня по-хорошему еще ничего, ты слышишь, ничего не собранно… Так что ты поспи пока, Зоренька моя, поспи…
Савва поставил на печь котел с оставшимся лосиным мясом, от души посолил воду и приправил молодой, совсем мелкой еще черемшой, что в изобилии проклюнулась на прогретом, южном берегу реки. Покончив с мясом, приоткрыв шторку, Савва прислушался к мирному посапыванию спящей девушки, перекрестился торопливо и вышел из спальни.
…Месяц, четкий, словно вырезанный из сияющей жести, еще болтался в темном утреннем небе, когда в спальне раздался громкий, болезненный стон…
– Ой, дяденька, ой, Савелий Александрович, больно мне! Ой, как больно, мамочка родная…
Гридин заметался по комнате, упаковывая в мешок отварное мясо, завернутое в кусок давно уже порванной на ветошь простыни. Казачью шинель, свернув в тугой узел, так же впихнул в мешок (мало ли что), остатки табака пересыпал в карманы и, накинув на плечо мешок с золотым песком, наклонился над побелевшей девушкой.
— Ну, вот и все, Зоренька. Пошли.
— Куда, куда ты направился, Савелий Александрович? — тут же подал голос неугомонный подъесаул. — Вниз по реке сплошные пороги, я проверял в свое время. Сгинете на такой лодчонке. Вверх — на сто верст ни одной деревни… Куда, куда ты, дураковатый?
— Вверх, Иван Захарович, — вздохнул безнадежно Гридин. — Верх…
Набросив на девушку пальто, заботливо поддерживая ее за плечо, он вышел из дома, старательно прикрыв за собой дверь…
…Девушка, свернувшись комочком, укрытая шинелью от росистой ночной прохлады, плакала и вздрагивала во сне на корме лодки, а он, сдирая в кровь ладони грубо оструганными веслами, все греб и греб, монотонно сгибая и разгибая ноющую спину.
— Может, одумаешься, солдатик? — хихикнул примостившийся на носу лодки Хлыстов.
– Ну что тебе она? Ты даже имя-то ее так и не узнал… Чуть-чуть подтолкнуть ее веслом – и все, нет девоньки… Обратно вернешься в скит… Я тебе богатое золото покажу и копь смарагдовую, коли пожелаешь… Дорого камень этот стоит, ох дорого, иной подороже брильянта будет… Что, скажешь плохо нам с тобой вдвоем было? Ведь нет же…
— А не пошел бы ты, Иван Захарович, куда подальше… Надоел, спасу нет…
Он закурил и заметил, что девушка уже и не спит, а со страхом смотрит на него…
— Ты с кем, с кем, дядя Савелий, разговариваешь?
— Не бойся, Зоренька, — успокоил ее раздосадованный зэка. — Это я со своим дружком бывшим беседую… В свое время не договорили, вот он и пристает, писатель, мать его… Все в душе моей копается… Человековед…
Гридин выбил трубку о борт лодки и снова взялся за неподъемные, казалось, весла…
— Куда, куда ты меня везешь? — девушка приподнялась и, придерживая живот, осмотрелась вокруг… — Здесь даже деревень-то и тех нет, а уж докторов и подавно не найдешь…
— Туда, — мужик коротко махнул головой, не переставая налегать на весла… — Там уж точно и доктор есть, и медсестра опять же.
Он рассмеялся, старательно моргая, пытаясь сбросить с ресниц предательские слезы… Потом, замявшись, вновь пристал к ней с давно уже мучившим его вопросом:
— Ты лучше, голуба, скажи мне наконец, ну, вроде бы как на прощанье: на кой ляд на лед в такое время пошла?.. И вообще, колись, откуда ты, Зоренька, появилась?
Она помолчала, упрямо глядя на Гридина, потом потупившись, выдавила:
— Я, дяденька, из Ивдели, есть такой городок… Я, я специально на лед пошла… К полынье… А потом испугалась… Не смогла… А тут и лед пошел…
Она вновь заплакала, обиженно вытирая слезы маленьким кулачками.
— Ну, зачем, зачем ты меня с льдины снял? Мне уже и не холодно стало… Совсем не холодно. Правда-правда… А теперь у тебя, Савелий Александрович, через меня неприятности могут случиться…
— Неприятности… — хмыкнул он и умолк, ни о чем особенно не думая…
— …Мягко сказать, неприятности…
12.
…Колючка, вышки, длинные бараки лагеря, того самого, откуда прошлой осенью Савелий Гридин так удачно бежал, несмотря на поздний вечер уже отчетливо виднелись сквозь редкие сосны, а он все искал и искал причины и предлоги оттянуть тот момент, когда перед ним вновь откроются высокие лагерные ворота…
Встав на колени, зэка, под недоуменным взглядом роженицы, жесткой ладонью содрал пухлую, мягкую заплатку мха, бугрившегося возле ярко-черных корней завернутой в спираль березы, невесть когда порченой молнией. Быстро по-собачьи выкопав в легкой, песчаной почве небольшую ямку, он потянулся к золоту. Подраспустив тесемки мешка, Гридин захватил несколько горстей самородочков покрупнее и, заполнив ими ямку, вновь вернул мох на
прежнее место, для верности утопив в нем пару-тройку раз кулак. Поднялся и, отряхнув ладони, нежно прикоснулся к ее волосам, легким и пушистым.
— Ты, Зоренька, березку эту крепко запомни, а когда все закончится, купи какой-никакой домишко. Домой, в Ивделю свою не возвращайся… Ни к чему, я думаю. Тут тебе, если дурой не будешь, и на дом, и на скотину за глаза хватит…
— Стой, мужик! Куда прешь! Стой, стрелять буду…
Вертухай-краснопогонник направил на Савелия и девушку поблескивающий свежей смазкой автомат.
— Врача. Позови врача, бестолочь! — Гридин нарочито злобным голосом прогонял из души своей последние сомнения. — Зови лепилу, видишь, девочка рожает…
— Наташа, Наташа я… — пискнула она, а долговязый, черный от щетины грузин-врач в белом расстегнутом халате, из-под которого виднелись голубая несвежая майка и мятые офицерские штаны, уже подхватывал ее, обессилено обмякшую, на руки.
— Наташа?! — он, жалобно проводив девушку взглядом, недоуменно пожал плечами…
— Так какого ты мне раньше не назвалась, а то все Зоренька да девочка?.. Чего стеснялась?
На КПП пришел и вызванный дневальным начальник зоны, полковник Смоленский, умный и незлобивый мужик… Прищурив близоруко глаза, он внимательно вглядывался в лицо Гридину, странному типу, заросшему и грязному, одетому в потрепанный казачий бешмет, шаровары с широкими линялыми лампасами и высокие офицерские сапоги тонкой, мягкой кожи…
— …Заключенный Гридин Савелий Александрович, номер сто восемьдесят шесть дробь четырнадцать, статья сто сорок четвертая УК Российской Федерации, часть четвертая. Добровольно вернулся из побега…
Потом вздохнул и, сняв свой заветный мешок, передал его в руки оторопевшего офицера:
— А это вам, гражданин начальник. Может быть, пригодится…
Полковник запустил руку в мешок, поднес ладонь с золотым песком к глазам, хмыкнул неопределенно и, высыпав его обратно, проговорил негромко и веско:
— Ну, хорошо, Савелий Александрович… Сегодня я песочек взвешу и обдумаю… Пожалуй, кило за год вас не обидит? Нет? Ну и ладушки…
13.
Дневальный по бараку широко распахнул дверь в темное, давно не проветриваемое помещение и громко, весело гаркнул:
— Савва, дуй на КПП! Кум приказал. Там до тебя гости приехали! Жена, кажись…
— Какие там гости? — буркнул тоскливо Гридин, отбрасывая старую, зачитанную, в жирных селедочных пятнах газету.
— Мне до звонка месяц остался… Какая, к лешему, жена?
…Возле высоких металлических ворот, усиленных сверху колючкой, в нарядном голубеньком платье стояла красивая молодая женщина с необычайно зелеными, радостно распахнутыми глазами. Рядом с ней, в мокрых, видимо только что проссаных, колготках, копошился светловолосый пацаненок лет двух, может быть, чуть старше, увлеченно лепивший пирожки из пыли, замешанной на собственной моче.
— Здравствуйте, Савелий Александрович, – протянула она ему узкую, прохладную ладошку. — Я все сделала, как вы и хотели: купила домик прямо возле речки… Хорошая такая речка, тихая… Коровенку, поросенка и даже мотоцикл для вас…
— Для меня? — опешил зэка. – Наташа, ты?! …Мне?!
— Ну да. А кому же еще? – искренне удивилась девушка и, бросив ласковый взгляд на мальчика, добавила: — Если вы, Савелий Александрович, согласитесь меня с таким приданым в жены взять…
Гридин посмотрел на Наташу, на сына ее и, прислонившись к теплым, крашенным зеленым листам лагерных ворот, закурил…
— Да я же старый для тебя, Зоренька, старый…
— Вовсе и не старый, правда, Саввушка?
Мальчик подошел к Савелию и протянул ему грязную, пыльную ладонь, коверкая слова, заученно проговорил, потешно, словно для поцелуя, вытягивая губы:
– Папка, здравствуй…
Часовой, прятавшийся от полуденного солнца в тени от будки, громко, намекающе кашлянул…
— Да, да, — зачастил Гридин. – Я сейчас…
Потом подошел к девушке и, словно не веря в ее реальность, слегка дрожащими пальцами прикоснулся к ее щеке…
— Что, Наташа, и адрес скажешь? — словно все еще сомневаясь в чем-то, протянул Савелий.
— Конечно, — рассмеялась девушка и протянула ему бумажку с заранее написанным адресом…
И снова осень, или пляска рыжего коня.
«…И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч».
(Открове;ние Иоа;нна Богосло;ва).
Росный ковыль медленно приподнимался над приплюснутой степью навстречу не по-утреннему жаркому солнцу. Высокое, полинялое за лето небо опускалось к далеким холмам, желтым от вытоптанной, высохшей травы и, смешивая блеклые краски, отсвечивало зеленоватым на размытом жаркой дымкой горизонте. Раскаленный воздух, насыщенный запахом крови, подсыхающего конского навоза и свежей, вывернутой наизнанку орудийными снарядами земли, стеклянисто колыхался над пыльной дорогой, извилисто уползающей в сторону голубоватых округлых, Златоустовских гор, густо поросших сосновым и кедровым лесом . В глицериновой вязкой тишине, как в болотной трясине, тонут и суховатый треск саранчи, и одинокие посвисты ширококрылой хищной птицы, парящей над опустевшим полем боя. И посвисты ее, не то жалобные, не то требовательные, странным образом походят на человеческий стон: — Пить, пить, пи-и-и-и-ть…
Сентябрь в этом году выдался на Южном Урале на редкость жарким и сухим. То тут, то там среди измочаленных конскими копытами зарослей татарника и душицы валялись раздетые до исподнего, а иной раз и совершенно голые мертвяки. Ни оружия, ни обмундирования, ни лошадей – народ, опустившийся за годы войны, легко переходит грань человеческого достоинства, опускаясь до грабежа и мародерства.Тишина и безветрие… И пыль. Красная невесомая пыль висит в воздухе часами, словно неведомый шалый конь огненно-рыжей масти мечется по пролысинам степи, поднимая ее, веками копившуюся на местных солончаках, точеными своими огненными копытами.
Совершив еще несколько широких кругов вокруг поля и не заметив ничего для себя съестного, птица, явно брезговавшая падалью, скрылась где-то среди жиденьких туч, голубеющих над казахскими степями. Унылое солнце, надежно утвердившееся в зените, равнодушно смотрело на землю, искореженную войной, не замечало бредущего по горячей дорожной пыли человека, почти голого, в одних кальсонах с пятнами зелени на коленях и грязными замахрившимися тесемками.
1.
Город открылся совершенно неожиданно, как-то вдруг, сразу. Всего четверть часа назад вокруг бредущего человека еще шумела казавшаяся бесконечной первозданная уральская тайга, и вот уже прямо перед ним серый прокопченный приземистый вокзал, извилистые железнодорожные нитки, сворачивающие за невысокую скалу красного обомшелого гранита, высокое кирпичное здание водокачки. А за перроном, за чахлыми кустами ирги и корявого вишенника начинался непосредственно древний купеческий город.
Человек вновь вернулся в лес и по чуть заметной тропке пошел к увиденной им скале. В таких скалах частенько можно отыскать если не пещеру, то хотя бы нору, где можно без опаски отсидеться до наступления сумерек. Нора и в самом деле нашлась: чуть ниже тропки, бегущей по щебенистому обрыву, гранит нависал длинным широким козырьком, под которым отрухлевшая с годами хвоя превратилась в мягкую и теплую подстилку. Человек забрался в нору, с протяжным стоном вытянул усталые ноги и, с минуту повозившись, уснул тихим, беззвучным сном. Мимо него спящего, улыбающегося во сне, надсадно кашляя белесым паром и громко гремя железными сочлениями, проносились паровозы с составами, груженными лесом и орудиями, прикрытыми рваным, выцветшим брезентом. Черный, лоснящийся мазутом мастодонт- бронепоезд с наскоро замалеванными двуглавыми орлами на клепаных бортах, украшенный красными звездами и гирляндами из сосновых лап, ощетинившись пулеметами и стволами легких орудий, уходил на юг, в сторону Уфы.
«…Я не кадетский, я не советский, я не партийный большевик, Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленки тоже хочут жить…»
Разношерстная, пестро одетая группа полупьяненьких и крикливых, вооруженных трехлинейками мужиков вразнобой, не в ногу, уходила вдоль железнодорожного полотна в противоположную сторону. Торговки жареными семечками и отварным рубцом изредка и лениво переругиваясь, торчали возле своих мешков и прокопченных казанов, исходящих выбивающим голодную слюну паром. Начальник вокзала в дореволюционном кителе, с красной тряпицей на впалой груди чем-то зеленым натирал сверкающий золотом колокол, висевший на цепи под большими, лишенными минутной стрелки часами. Город, вернее вокзал , жил нормальной, насыщенной жизнью тех бестолковых времен, а полуголый, с золотистой щетиной на впалых щеках человек спал, свернувшись по-щенячьи, спал крепко, до тягучей слюнки, со странно–мечтательной улыбкой на растрескавшихся губах…
Солнце, словно спохватившись, торопилось убраться за потемневшие кроны сосен. Удручающая жара спадала, приближался вечер, тихий, теплый, богатый на росу… Спящий заворочался, до хруста в костях потянулся, удовлетворенно зевнул и окончательно проснулся. Он выбрался из-под гранитного козырька и вольготно откинувшись на теплый шероховатый гранит, принялся с удрученным видом рассматривать вокзал с погашенными уже лампами внутри здания и с трудом читаемой в полумраке вывеской, установленной на самой крыше, между двумя застывшими флюгерами в виде двугорбых верблюдов. — Челябинскъ, – прочел он вслух недоуменно и вновь надолго задумался. Ни верблюды — флюгера, ни название города ничего не говорили этому странному человеку, который за исключением двух последних суток блужданий по тайге ничего, абсолютно ничего не помнил…
Кто он, как оказался в одних кальсонах на обожженной солнцем, перемолотой сотнями лошадиных подков пыльной дороге, приведшей его в конце концов к челябинскому вокзалу ,– все было вымарано из его памяти… Мужчина сплюнул и аккуратно, чтобы не распороть босые ноги о гранит и щебень, начал спускаться вниз, к железнодорожному полотну. К вокзалу примыкала прямая улица, засаженная высокими широколистными тополями, состоящая в основном из крепких, добротных одно- и двухэтажных кирпичных домов под крытыми железом крышами. На многих домах возле дверей поблескивали бронзовые таблички, небольшие, но чрезвычайно солидные: «ДОМ СВОБОДЕН ОТ ПОСТОЯ». Ночь, безлунная и темная, наконец-то упала на город, и человек в белеющих кальсонах уже более смело шлепал по мощенной деревом улице. Окна в домах гасли одно за другим, и лишь тусклые огоньки лампадок в красных углах несколько оживляли уснувшую улицу. Собак не было, их ленивый перебрех слышался лишь иногда, да и то в еще более темных и мрачных переулках, где чернели ветхие деревянные постройки. Метрах в трехстах от вокзала возвышался черной глыбой католический костел, дома здесь были более богатые. На площади, освещенной несколькими кострами, взад и вперед сновали какие-то люди, устало всхрапывали лошади, слышался мат и вызывающий смех пьяных женщин.
Мужчина в таком виде идти в ту сторону не рискнул и свернул в приоткрытую калитку небольшого ладного домишки со слабоосвещенным окном. Обогнув сваленную возле крыльца кучу угля, неизвестный прижался лбом к стеклу, восторженно рассматривая довольно непритязательно обставленную комнату с голландской печкой, облицованной молочно-белыми изразцами, и широкой кроватью с железными шарами. На кровати, вольготно раскинувшись, спал мальчик лет шести, ногами скомкав в жгут стеганое из пестрых лоскутков одеяло. Никого из взрослых в комнате не было, и мужчина, осмелев, поставил локти на прохладный жестяной слив и застыл в немом восторге…
Казалось, он готов был стоять так всю ночь, радостно глядя на чьего-то сына, спящего спокойно и безмятежно, на пухлые подушки, на печь с приоткрытым черным поддувалом, на небольшой домашний иконостас с темными, любовно протертыми маслицем, строгие старого письма лики. Позади него что-то чуть слышно скрипнуло, похоже, дверь, но он, кажется, совершенно не придал этому значения и все также заворожено разглядывал кусочек чужой жизни. — …И долго так стоять собираешься, болезный? Продрог, небось? -вдруг услышал он позади себя негромкий женский голос, вздрогнул от неожиданности и настороженно обернулся.
2.
На невысокой скамеечке, под черной рваной тенью раскидистого кустарника (должно быть, сирени), он вдруг заметил сидящую молодую женщину. У ее ног в траве, поблескивая жалом, лежал топор. — Ну так рассказывай, чего ты там в моем доме высматривал, филер противный, гороховое пальто? И что это за маскировка такая — бродить по городу совсем неглиже? Или у вас, в охранке, деньги закончились на содержание таких типов? Он подошел к скамейке, присел и, всмотревшись в ее плохо различимое в ночи лицо, проговорил медленно, словно тщательно обдумывая каждое слово: …- Я хочу есть, и я очень грязный… Женщина коротко хохотнула и постаралась отодвинуться от незнакомца как можно дальше, насколько позволяла длина скамейки: — Покормить-то я, пожалуй, тебя покормлю, но вот насчет мытья…В колонке вот уже неделю как воды нет, говорят, где-то что-то пушкой повредило…Приходится на реку ходить, там по берегу ключи бьют- вот оттуда воду и берем…Но уж больно далеко, оттого только для питья бережем… Ну да ладно, пошли, помою как ни то… Она нагнулась, прихватила с земли топор и, не оглядываясь, пошла к дому. Мужчина спохватился и поспешил за ней, внимательно глядя под ноги – куски угля или кокса, затерявшиеся в траве, нещадно ранили его измученные ступни. — И потише, Сережку разбудишь, сынишку моего,- предупредила она и, приоткрыв дверь, пропустила ночного гостя в дом.Задернув полупрозрачной занавеской кровать , она провела мужчину на кухню и, засветив керосиновую лампу, уже более серьезно оглядела чужака. — Александра Петровна Решетникова,. – представилась женщина и, усадив гостя на венский стул с витой спинкой, стала неторопливо выискивать что-то на полках и в ящичках шкафчика, укрепленного над приземистой русской печью. — А ты кто? – Решетникова наконец нашла то, что искала: граненый штоф темно- зеленого, волнистого стекла, наполовину опорожненный. — Не знаю…- признался мужчина и горько вздохнул: — Кто я, что я…? Ничего не помню… — Контузия, что ли? — А я знаю!? – уже более раздраженно буркнул он и устало уставился на свои грязные, оцарапанные ноги, рваные и грязные кальсоны. Александра ( по виду ей было не более двадцати пяти лет, и она наверняка прекрасно пока еще обходилась без отчества) поставила посреди кухни большой медный таз, а рядом на табуретку – штоф и скатанную в бинт марлю, явно бывшую в стирке. — Ну, вставай, орел, в таз,- приказала хозяйка, задергивая занавески на небольшом оконце. — Исподнее снимай и отбрось к печке. Не хватало еще вшей нам через тебя заиметь…Да не стесняйся, не сглажу. Мужик покраснел, но перечить не стал, и грязные кальсоны отлетели прочь. Александра, нимало не смущаясь, подошла к обнаженному, старательно прикрывающему свое причинное место мужчине, и обильно промочив марлю самогоном, хоть и настоянным на каких-то травках, но все равно сильно отдающим сивухой, стала протирать голову, шею и тело незнакомца. — Да ты не дергайся, мужик!- увещевала она его, когда тот, зажимая руками то задницу, то мошонку, пытался увернуться от ее умелых и сильных рук. — Не дергайся, говорю, и не стесняйся… Я, между прочим, два года в сестрах милосердия проходила. Сначала курсы, а уж потом и госпиталь в Перми…Я и не таких, как ты, красавцев отмывала…То гной, то кровь…Прости, Господи!- Она перекрестилась и, бросив в таз почти черный от грязи тампон, вышла не надолго из кухни, а когда появилась, в руках ее оказались сложенные вдвое чистые рубаха и кальсоны. — Одевайся, казачок… Да не брезгуй, это мужнины…. А где он?- запрыгал на одной ноге раскрасневшийся после спирта незнакомец, неловко пытаясь натянуть тесноватые кальсоны. — Погиб, должно быть, Мишенька мой. — Пожала плечами она и, присев за стол, уставилась на огонек керосиновой лампы. — Он у меня геолог был… Мы раньше в Перми жили, его по Горному ведомству сюда в семнадцатом перевели… …Прошлой весной ушел куда-то к Таганаю, да так и не вернулся…Их пятеро было: два геолога да с ними еще три мужика, рабочие. Никто не вернулся. Может, медведь в тайге поломал, может, банда какая, а может быть, кто из его партии грех на душу принял …А что? Очень даже просто… Нашли случаем большое золото, вот кто-то и не удержался…Золото, оно людей запросто портит…Я этим летом по тем местам пробежалась — ничего не нашла. Даже копей свежих не видела…Да и то сказать: где искать-то, тайга — она тайга и есть…-
Чистый, пропахший самогоном незнакомец присел за стол напротив девушки… На кухне повисла тишина, лишь потрескивал фитиль под прокопченным надтреснутым стеклом лампы да под потолком отливающая в зелень муха чистила лапки, иногда коротко вжигивая , должно быть, от удовольствия… Александра встряхнула головой с тяжелой толстой светло-русой косой, старательно уложенной в крендель. — Ну ладно, как тебя там…Ты есть–то не расхотел? Ставить чайник или нет? Он помолчал, глядя на Александру, странными для мужика ярко-голубыми детскими глазами, словно прислушиваясь к своему организму, и, слегка пригнувшись над столом, прошептал: — Вы знаете, Александра, я готов сгрызть собственную руку. И запить вашим жутким самогоном… Он, а следом и Решетникова, рассмеялись, и хозяйка, все еще посмеиваясь, принесла из сеней ополовиненный пирог, прикрытый чистым полотенцем, даже в холодном виде вкусно пахнувший кисловатым деревенским тестом и отварной рыбой с жареным луком. — Ух ты!- Вскричал ночной гость, и руками разорвав пирог надвое, тут же позабыв о стоящей над ним женщине, принялся за него, откусывая и глотая (почти не прожевывая) большие куски неожиданного угощения. — У меня в этот раз тесто не удалось…-начала было она оправдываться, но заметив, с какой жадностью, он расправляется с ее стряпней, замолчала, думая о чем-то своем, грустном.
3.
Уже неделя прошла, как поселился незнакомец у вдовой Александры, а все что-то не то, все ж не дома. Иной раз забудется, с сынишкой ее в шашки да в карты, в «Акулину» на щелбаны сыграет, а то все больше у окна сидит. И то сказать, когда в памяти полная пустота, когда ты не знаешь, кто и откуда, радоваться особо нечему. Но сегодня что-то должно было случиться. Это уж как пить дать…И настроение у него веселое да радостное, будто праздник какой в душе случился…А все от того, что в дверь утром еще залетела пестрая, нарядная бабочка. Покружилась по комнате да прямиком к нему…Села на плечо, лапками своими перебирает, крылышками помахивает…Разве что не мурлычет по- кошачьи… А тут на кухню и хозяйка заглянула. Молча пальчиком поманила — выходи мол во двор, поговорить нужно… Вышел он, а Александра уже на скамеечке своей сидит. Серьезная такая, важная даже. Присел и он. Помолчали они, и тут она возьми да и выдай…Хоть стой, хоть падай…Да и было, честно говоря, отчего. — Слушай, парень, — начала она как обычно негромким своим голоском… — Я вот что решила. Будешь моим мужем, Михаилом Ивановичем Решетниковым…Ну хотя бы до той поры, как память к тебе вернется…Ты не подумай, мне не для постели муж нужен…Совсем даже и наоборот… — А для чего? – Новоявленный Михаил Решетников улыбнулся, жалко и растерянно… — Я ж тебе говорила в свое время, — продолжила Александра, глядя перед собой сосредоточенно и даже хмуро.- что мы сюда недавно переехали…Соседи Мишеньку моего, пожалуй, и не видели…А в Горном ведомстве мне сказали, что все начальство поменялось…Никого из прежних-то и не осталось…А у тебя через всю спину несколько шрамов… Свежих, сабельных, скорее всего…Судя по всему, ты, парень из военных будешь, а может, и из казаков… Но видишь ли, Мишенька(она невесело улыбнулась), можно эти шрамы за медвежьи выдать…Очень даже запросто…От этого ты и, дескать, память потерял, что медведь тебя в тайге поранил… Тебе все равно под каким именем ходить, а мне за твое увечье и пенсию выхлопотать шанец имеется…Ну как, здорово я придумала? Он покачался, улыбнулся и спросил так, скорее уже сдаваясь и соглашаясь с этой дурацкой ее затеей… — А чем вы до меня жили? Я имею в виду, после пропажи настоящего Михаила… …- Чем жила? – она взглянула на него, щурясь от яркого полуденного солнца. — Золото мыла…Так, помаленьку…Здесь же, на реке Миасс, в черте города…А как вода похолодеет, так за гроты сажусь… — За гроты?- искренне поразился мужчина. – А это что еще такое? Женщина вспорхнула со скамейки и метнулась в небольшой сарайчик, стоящий поодаль, рядом с уборной. — Смотри, парень!- в голосе ее зазвучала нескрываемая гордость… Честно говоря, было чем гордиться. На ее ладошке возвышалась небольшая горка из кусочков частично отполированных поделочных камней. В самом центре горки красовался небольшой грот- вогнутая друза мелких кристалликов светло-фиолетового цвета – аметистов. От гротика вверх, к снежно-белой сосульке натечного халцедона вели малюсенькие ступеньки темного отполированного малахита, с проступнями из розового родонита. Солнце играло на всех гранях этой занимательной безделушки, превращая ее в таинственный и прекрасный грот. — Правда, здорово?- прошептала она , любуясь своей работой. У меня их раньше и в Перми, и в Екатеринбурге лучшие ювелирные магазины с руками брали…Даже от Пороховщикова…А теперь все…Война…Нету спроса, говорят…А жалко… — Жалко,- согласился он, любуясь не столько камнями , сколько ее маленькой, но сильной ладонью с розоватыми, коротко обкусанными ноготками… — Хорошо,.- поднялся он со скамьи и направился к дому, в тень. — Я буду вашим мужем. Как вы говорите, Михаил Иванович Решетников? Во-во, именно так: Михаил Иванович Решетников … Он рассмеялся и, оборачиваясь к Александре, спросил впрочем, совсем не надеясь на согласие… — А может быть, я, на правах мужа, иногда… — Нет, не может быть!- прервала она его и вновь обратилась к своей поделке. — Да, кстати, Мишаня! – уже в сенях догнал его звонкий и веселый женский смех: — У нас, кстати, принято жену на ты величать…А у вас? — Если б я помнил…- заметил новоявленный хозяин дома и захлопнул двери.
Как ни странно, но суета и неразбериха, царившие в то время в Челябинском филиале горного ведомства, послужили на пользу новоявленным супругам Решетниковым. Начальник отдела товарищ Хвостов, полноватый коротконогий мужик, судя по всему, бывший полковой писарь, байку про потерю памяти у геолога Михаила Решетникова, приключившуюся после неудачной встречи с медведем, принял на веру. И кроме небольшого, но ежемесячного денежного пособия «до полного выздоровления», выписал единоразовый мандат на предъявителя на центральный продовольственный склад. Видимо, бывший писарь товарищ Хвостов увлекался литературой, так как бумага эта читалась следующим, довольно занятным образом:
« Выдать геологу и рудознатцу Михаилу Ивановичу Решетникову, потерявшему здоровье в почетном деле розыска полезных ископаемых (золота и иных руд) для ради скорейшего обогащения молодой советской республики следующие продукты: 1. «Соль – 1 фунт. 2. Сахар- 1 фунт. 3. Мука–крупчатка – 5 пудов. 4. Рыба (селедка) – пятнадцать штук. Начальник отдела тов. Хвостов А.Я. 14 октября 1919 года от Рождества Христова. Гор. Челябинск».
Продукты, полученные со склада, они вместе с Александрой довезли на нанятой за гривенник пролетке, нарочито долго разгружались, а после, рассчитавшись с извозчиком, еще более долго переносили в дом, еле сдерживая смех, исподволь наблюдая за соседями, подглядывающими за ними из-за занавесок соседних домов. Сережке, по настоянию Михаила, они приобрели довольно большую грифельную доску и несколько карандашей, громко гремевших в жестяной лаковой коробочке — пенале. — Пора мальчишку грамоте обучать, большой уже, меня в карты обыгрывает… -показушно сердито ворчал новоиспеченный супруг, протягивая Александре деньги перед бакалейной привокзальной лавкой. С сыном ее у Решетникова после покупки этой доски отношения быстро начали переходить в доверительные, почти родственные. И если иной раз, мальчонка, увлекшись рисованием, называя этого мужчину папой, просил о помощи, сердце Александры сжималось в сомнении: она не знала, как себя вести при подобных оговорках – радоваться или огорчаться… Впрочем, Михаил вел себя довольно тактично: помогал ей по дому, в постель пока еще не набивался и ежедневно по нескольку часов занимался с Сережкой письмом и арифметикой. Но чаще всего он, пока еще на дворе стояла сухая погода, сидел на их скамеечке и читал толстенные мужнины книги по геологии, горному делу и химии, разложив на дощатом полу комнаты полустертые на сгибах карты, ползал над ними с большим бронзовым компасом, делал только ему понятные заметки… К стыду своему, молодая женщина, украдкой наблюдая, как Михаил с врожденной грацией двигается по дому, занимается чем- нибудь с ее сынишкой или читает учебники, полные диаграмм и формул, называла его про себя не иначе как «муж мой».Она втайне страшилась того часа, когда в его лобастой голове что-то щелкнет и память полностью вернется к этому, столь дорогому теперь для нее мужчине.
Что-то подсознательное, интуитивное, чисто женское подсказывало Александре, что Михаил, вернее, тот , которого она называла Михаилом, в действительности окажется человеком из совсем иной жизни, иного сословия, воспитания и достатка… Вот и сегодня он, рисуя на грифельной доске для малого зверушек и птиц, нарисовал вдруг такую вздорную и наглую ворону, словно живьем прилетевшую на эту доску, что она чуть было не вскрикнула :- Кыш! Кыш, проклятая… Сережка радостно хлопал в ладошки, а Александре отчего-то хотелось упасть лицом в подушку, и плакать, плакать, ожидая прикосновения доброй и мягкой мужской руки.
Сухая и не по-уральски теплая осень постепенно пошла на убыль, небеса затянуло плотной серой мешковиной туч, на город обрушился долгий, многодневный проливной холодный дождь. Дождливая погода, казалось, внесла еще большую сумятицу в обстановку, царившую в районе всего Каменного пояса. Газет издавалось мало, и лишь слухи, один другого невозможнее и безумнее, бродили по улочкам и переулкам Челябинска. Никто ничего не знал наверняка, никто толком не мог сказать, что происходит за городской чертой. Иногда на вокзальном перроне неведомо откуда появлялись взводы чехословацких пехотинцев в куцых рыжих шинелях, а уже через несколько часов вдоль железнодорожного полотна скачут казаки, да не просто казаки, а присягнувшие трехцветному знамени… Откуда? Куда? Зачем? Да кто тут разберет… Александра в последнее время несколько замкнулась, старалась больше обычного уделять внимания сыну. Михаил объяснял это ее состояние своей несостоятельностью, считал себя обузой, незаметно старался есть как можно меньше…
Пособие, выписанное ему начальником отдела Хвостовым, в действительности оказалось более чем скромным, и к тому же сибирский рубль по сравнению с червонцами царской чеканки , которых у молодой семьи не было и в помине, с каждым днем проигрывал все больше и больше. Белый хлеб в семействе Решетниковых из повседневного медленно, но верно переместился в разряд редкого лакомства. …
В ноябре, ближе к вечеру, когда Михаил, в очередной раз отогнав лопатой от берега ноздреватую наледь, предшественницу ледостава, и озябшими руками вновь взялся за лоток, его арестовал патруль и под конвоем провел через весь город в дом купца Ляхова, где совсем недавно обосновалось ВЧК под началом Федора Семеновича Степного, двадцати семи лет от роду.
5.
В просторном кабинете, с камином, богато украшенным экраном каслинского литья и темно-зеленой, в разводах малахитовой каминной доской, над которой разместилась большая, известная далеко за пределами Урала коллекция курительных трубок, начало которой положил еще отец Ляхова , над колышущимися языками огня грел озябшие короткопалые руки держащий в страхе весь округ чекист Федор Семенович Степной…
— …Ну, проходите, проходите, Михаил Иванович, присаживайтесь в кресло, поближе к огню. Погрейтесь. Замерзли, небось? — Вместо приветствия проговорил Степной, обернувшись навстречу вошедшим, не вынимая из тонких бледных губ потухшую папиросу с обмусоленным промокшим мундштуком. — Вы свободны, товарищи, — отпустил он солдат, доставивших геолога в ЧК, и вновь протянул руки к теплу. — Еще в Германскую отморозил, и вот теперь чуть непогода — пальцы как клещами выламывает… Он сел в кресло, стоящее напротив того, где уже расположился Решетников, и , словно невзначай, бросил, старательно раскуривая свою папиросу:- А вы, Михаил Иванович, где служили? Разомлевший было Михаил внутренне напрягся и точно так же небрежно ответил чекисту: — Я, товарищ Степной, не служил. Горное ведомство, как известно, своих специалистов на воинскую службу не посылало, республике нужны уголь, нефть, металлы, золото… — И что?- Федор Семенович встрепенулся и даже нервно запахнул скрипнувшую новеньким шевро черную тужурку.- …И много золота у нас на Урале!? — Много, товарищ Степной,. – кивнул Михаил, мысленно перелистывая страницы недавно проштудированных книг пропавшего без вести мужа Александры. -…В районе озер Кисегач, Чебаркуль и Тургояк — богатые верховые залежи наносного золота. Там без драг не обойтись… В урочищах Вишневых гор, вблизи населенного пункта Пласт встречаются крупные самородные образования. Там нередки самородки весом в фунт и более, а катыши в два–три лота вообще дело обыкновенное… — А откуда вам это известно, товарищ Решетников?- вскинулся недоверчиво председатель ЧК. — Мне говорили, что вы полностью потеряли память? — Это так,- улыбнулся Михаил, внимательно рассматривая своего собеседника. — Я не помню ничего из своей прошлой жизни — кто я, как меня зовут и чем я раньше занимался, но моя супруга, Александра Петровна Решетникова, многое рассказала мне обо мне (простите за каламбур), и я, естественно, вновь засел за учебники. Скоро весна, открывается новый полевой сезон, и я должен вновь овладеть теми навыками и знаниями, которые имел прежде…Семью кормить я обязан, несмотря на потерю памяти…Я мужчина.
— Похвально, похвально. – Пробурчал Степной, с определенным скепсисом в голосе, вскакивая и торопливо подходя к двери. — Пригласите ко мне Граббе.- крикнул он кому-то в коридоре и вновь направился к своему креслу. В кабинет неслышно вошел пожилой розовощекий упитанный человечек маленького роста в белоснежном накрахмаленном халате. — Людвиг Карлович, — чекист обратился к врачу, продолжая в упор разглядывать геолога.- Будьте добры, осмотрите нашего гостя и скажите, в действительности ли шрамы на спине товарища Решетникова оставил медведь и могли ли они послужить причиной потери памяти? — Будьте любезны, Михаил Иванович, разденьтесь…Наш доктор вас осмотрит…Да не стесняйтесь, среди нас женщин нет… Михаил хмыкнул и, повесив на спинку кресла свою куртку, перешитую из мадьярской шинели, подошел к немцу. Тот долгим и внимательным взглядом всмотрелся в лицо Решетникова, вздохнул и попросил Михаила повернуться… — Ну что сказать, Федор Семенович? Врач дохнул на запотевшие линзы очков, протер их краешком полы халата и вновь водрузил их на вздернутый, пухлый, в прожилках нос. — Шрамы на спине нашего пациента длиной более пяти вершков в последней стадии заживления. Они вполне могли быть оставлены когтями крупного хищника, скорее медведя, чем например, рыси… Что до амнезии, частичной или полной потери памяти, то человеческая психика настолько хрупка и ранима, что сбои с нею могут произойти и от менее серьезного стресса, чем встреча с диким зверем. Остается надеяться, что домашняя обстановка, полноценное питание и определенные физические нагрузки послужат быстрейшему выздоровлению госпо…, простите, товарища… Врач вновь протер линзы и, подслеповато щурясь, спросил чекиста: — Вам, товарищ Степной, мое заключение в письменном виде подавать или нет особой необходимости? — Подайте, Людвиг Карлович, подайте… – бесцветным голосом проговорил тот и вытянул новую папиросу из самодельного портсигара. …- Товарищ Решетников, — Степной угостил Михаила куревом и, дождавшись, когда за врачом захлопнется дверь, продолжил: — А не желаете ли, Михаил Иванович, послужить нашей молодой республике в качестве работника Чрезвычайной Комиссии? Пока рядовым сотрудником, а потом и начальником отдела…Нам нужны, нам очень нужны молодые и грамотные кадры…Вы подумайте, не сейчас, так через месяц медицинская комиссия признает вас годным к строевой, и пойдет рядовой красноармеец Михаил Иванович Решетников топтать пыль фронтовых дорог…А война, она война и есть…И кто знает, вдруг супруга ваша, Александра… м-м-м Петровна, вновь овдовеет, но уже бесповоротно? Что скажете? «Геолог» не торопясь докурил папиросу, так же неспешно загасил окурок в большой мраморной пепельнице и только потом, весело глянув на начальника Челябинского ЧК, выдохнул дымом: — А что, давайте попробуем…-И показалось ему на миг, что в оранжевых завихрениях на горящих в камине поленьях, среди искр и всполохов, пляшет и вертится конь рыжий, великолепный в своей стати, с развевающейся языками пламени длинной гривой и опаленным огнем хвостом.
6.
…Служба в ЧК оплачивалась много больше, чем пенсия по здоровью в Горном ведомстве. И хотя к настоящей оперативной деятельности Михаил пока еще допущен не был и занимался только бумажной работой (восстанавливал и систематизировал архивы царской охранки, доставшейся чекистам «по наследству»), но словно по мановению волшебной палочки в доме появился определенный достаток. Помимо пачек хрустко-упругих облигаций, не без самодовольства вынимаемых Решетниковым из кармана новенького офицерского галифе, в семье нет-нет да и случались сюрпризы. Сюрпризы не без приятности и для самого молодого чекиста: то хмурый, молчаливый сотрудник привезет и свалит перед калиткой воз крупно напиленных березовых чурок, а то вестовой доставит мешок крупчатки, несколько фунтов мороженой конины или ведро толстоспинной упругой сельди…
…Часами беседовал со своим новым сотрудником Решетниковым лично Федор Семенович Степной, с каждым часом все более и более убеждаясь, что для революции, именно такие, лишенные памяти, а значит, и убеждений люди просто находка. Михаил, хотя и посмеивался про себя иной раз, слушая пространные разглагольствования малообразованного Степного, тем не менее впитывал все утверждения и доводы своего начальства, словно чернила в промокашку, ни на миг не усомнившись в их правильности и несомненной объективности. Тем более, что Федор Семенович постоянно подсовывал Решетникову ту или иную книжку с торчащими среди страниц спичками вместо закладок на самых важных (по мнению руководства ВКП(б) и, естественно, самого Степного) моментах. Александра, ясно сознавая, что во всей этой круговерти, случившейся с ее новым мужем, есть и ее вина, к решению Михаила стать чекистом отнеслась довольно спокойно, тем более что и сынишка ее, Сережка, искренне привязался к Решетникову. Впрочем, был еще один немаловажный фактор, заставляющий мудрую по жизни женщину не спорить с мужем. Вот уже с месяц, как она уверилась, что в ней зарождается и растет новая жизнь. Александра понесла… Однако, несмотря на то, что обстановка в городе все еще оставалась непонятной, а со снабжением положение становилось с каждым днем все хуже и хуже, она ни на миг не жалела о случившемся. Рождения общего ее с Михаилом ребенка женщина ожидала с радостным нетерпением. Александра ясно осознавала, что мужчина этот, с неизвестным для нее прошлым, не просто случай, заурядное событие, происшедшее на фоне братоубийственной войны, а Божье провидение, подарок всевышнего ей, недостойной, впавшей в глубокое уныние с момента пропажи ее настоящего мужа. До сих пор она с улыбкой вспоминала их первую по-настоящему супружескую ночь.
…Михаил, как обычно, спал на кухне, на мохнатом тулупе, брошенном на дощатый пол. Спал беспокойно, разметавшись, постанывая и посмеиваясь. Вдруг он совершенно отчетливо произнес что-то на незнакомом для Александры языке, вновь рассмеялся и перевернулся на живот. — Oui vous la coquette, la cousine… Regardez, le papa apprend…- сказал он уже более глухо и засопел, уткнувшись носом в овечий воротник тулупа. — …Oui vous la…- повторила она в ужасе и, как была в тонкой льняной застиранной рубашке, опустилась на пол. Полная луна заливала холодным серебристым светом кухню, и Александра вновь увидела страшный шрам на спине спящего. — Да кто же ты, Господи? – ее прохладные пальцы скользнули по узловатой, бугристой коже шрама. Михаил проснулся, мгновенье внимательно смотрел на залитую лунным светом фигурку женщины, а через мгновенье его руки уже настойчиво, хотя и негрубо блуждали по ее изголодавшемуся по мужской ласке телу, срывая призрачную льняную преграду… На следующий день Александра вынесла тулупы в сени, а на ее постели, появилась вторая подушка.
7.
— …Откройте, ЧК.- Привычно говорил Кожевников и отступал в сторону. В распахнутую дверь врывались его коллеги в шинелях и бушлатах, а он с головы до ног в новенькой, вызывающе скрипящей коже заходил в квартиру обычно последним, выбирал для себя место, откуда бы он мог наблюдать за всеми, как своими, так и подследственными, молча садился и за все время обыска не произносил ни слова. Как это ни странно, но именно его молчаливая фигура производила самое удручающее впечатление на растерянных и испуганных внезапным вторжением людей. Михаил сидел и, казалось, безучастно наблюдал за всем происходящим, вспоминая разглагольствования своего наставника, председателя ЧК Федора Семеновича Степного. — Вы знаете, товарищ Решетников, отчего такой богатый город, как Челябинск, который с легкостью мог бы полностью экипировать более пяти тысяч казаков, сдался нам практически без боя? Нет!? Да все очень просто…
Белогвардейцы, зная, что город держат в основном выходцы из купцов- староверов, распускали про нас, большевиков, страшные слухи…Мол они, христопродавцы, с детей шкуры спускают, жен в общее пользование отдают, ну и прочую ерунду…А мы, прежде чем начать войсковые операции, пустили агитационные телеги, на которых совершенно бесплатно раздавались как лубочные картинки, так и наши газеты и прокламации, и что самое интересное, телегами этими управляли обычно женщины, да такие, у которых румянец в пол-лица… Представьте себе, горожане ожидали увидеть под красными знаменами зверье в человеческом обличье, а тут бабы, веселые радостные…Люди в большинстве своем доверчивые и наивные…Запомните это, Михаил Иванович…Основательно уясните…Чем откровеннее вы будете разговаривать с людьми, даже если слова ваши сплошная хрень и вранье, тем скорнее и вернее собеседник вам поверит… Разговаривайте с врагом, веря в то, что вы ему говорите, и он ваш…Главное — вера и убежденность…
…Первыми в списках на обыск с последующим арестом значились ювелиры, владельцы небольших чайно-развесочных фабрик, купцы всех гильдий и известные врачи, обладавшие широкой зажиточной клиентурой. Обычно их после обыска сажали на несколько дней под замок на хлеб и воду, после чего выпускали и через пару-тройку недель вновь к ним наведывались… И так несколько раз, а уж после, полностью опустошенных, вместе с семьями грузили в вагоны и увозили прочь. Их дальнейшая судьба, честно говоря, Решетникова не интересовала. Следующими под интерес ЧК попадали актеры местного театра, художники и священнослужители. Но недолго смог начальник отдела Михаил Иванович Решетников оставаться сторонним наблюдателем. Атмосфера вседозволенности и безнаказанности заражала, словно испанка, и уже довольно скоро он, наравне со своими подчиненными, переворачивал шкафы, распарывал перины и подушки, походя давал в зубы особо несговорчивым «клиентам». И Михаилу это нравилось. Однажды, когда шерстили бывшего владельца швейной мануфактуры Лялина, Решетников в детской комнате сына промышленника заметил стоящий возле окна мольберт, в лапках которого стоял каркас с натянутым на него подготовленным, загрунтованным холстом. Михаил с любопытством подошел к мольберту и коснулся пальцами туго натянутого холста. Ему на миг показалось, что чуть слышное шуршание ногтя по упругой грунтованной ткани для него не внове, но крики из зала, где его сотрудники избивали упрямого богатырски сложенного Лялина, отвлекли Решетникова. Он поморщился, но тем не менее приказал вбежавшему слегка кривоногому красноармейцу, потирающему окровавленный, с ссадинами от зубов промышленника кулак, прихватить мольберт, краски, заготовленные холсты и картон с собой. — Занесешь ко мне домой, на Привокзальную…- распорядился Михаил и не оборачиваясь, направился к выходу.А в городе уже основательно и прочно расположилась весна…
Заросли сирени возле католического собора с наглухо забитыми дверями изошли на неправдоподобно пахучую кипень, высокие черемухи уже собирались распустить свои гроздья, грозя обязательным похолоданием. В свободные вечера Решетников с Сережкой ходили на берег реки Миасс, на этюды. Михаил терпеливо (и откуда все взялось?), разъяснял парнишке, как надо смешивать краски, как делать набросок, как класть мазки на грунтованный картон. Рисовал и сам. Однажды под вечер он вбил в стену гвоздь и повесил уже обрамленную в строгую черную раму довольно большую, еще пахнувшую красками и лаком картину, подошел к Александре и ласково приобняв женщину за большой, округлый живот, попросил: — Ну-ка, Сашенька, взгляни, что получилось. Тяжело ступая, женщина подошла к картине и с удивлением и возрастающим восторгом принялась рассматривать работу своего мужа. Кусок полуразрушенной каменной кладки, утопающей на заднем плане в зарослях крапивы и конопли, легкие мостки, уходящие разбухшими досками под прозрачную воду, а на противоположном берегу, на возвышении, небольшая беленая церквушка с покосившимся куполом-луковкой. И такой тишиной, замешанной на великой вселенской тоске, веяло от этой картины, что Александра даже попятилась слегка и шепотом спросила мужа: — Мишенька, да неужели это ты сам нарисовал? — Сам! – гордо проговорил Решетников, присаживаясь на стул и закуривая. — Ты знаешь, Сашенька, я, как только это место увидел, это за бывшим Дворянским собранием, заброшенный спуск к реке, так просто влюбился, да что там влюбился, заболел, можно сказать, этим уголком города… Такое ощущение даже появлялось, что я здесь уже бывал, и не раз …Глупо, наверное… Но вот, тем не менее, так…- Он помолчал, загасил папиросу и уже самым обыденным голосом спросил ее: — Ну ладно, мать, а ты нас с Сережкой ужином -то кормить собираешься, или как? — Александра еще раз окинула картину взглядом, отчего-то полным тоски, и поспешно начала собирать на стол.
А на следующий день Решетникова вызвал к себе председатель челябинской Чрезвычайной комиссии Федор Семенович Степной. Михаил постучался в дверь и, услышав разрешение, вошел. Перед Степным на темно-зеленом сукне стола лежал, поблескивая смазкой и воронением, револьвер… — …Проходите, Михаил Иванович, присаживайтесь. – Простое мужицкое лицо председателя ЧК казалось непроницаемым. Решетников на внезапно отяжелевших ногах подошел к столу и сел напротив Степного. Обычно совершенно пустой стол, стоящий между ними, сегодня, с лежащим на нем пистолетом, показался для Михаила унылым и страшным, словно то пустое, безжизненное поле, на котором он в свое время очутился неведомым для себя образом. — Скажите, товарищ Решетников, как вы относитесь к оружию, в данном случае к огнестрельному? Михаил неопределенно хмыкнул и пожав плечами проговорил бесцветным голосом: Да как вам сказать, товарищ председатель Чрезвычайной Комиссии? Ровно. Как пацаненок от восторга не прыгаю, но и особо не тяготясь…А что случилось? — Так отчего же мне уже в который раз сигнализируют, что, мол, начальник отдела Михаил Иванович Решетников на задание ходит с пустой кобурой? Как это понимать, милейший? Вы что ж думаете, мы здесь в бирюльки играем? Ан нет, совсем даже наоборот… Мы защищаем революцию. Да, да, именно так… Революция должна уметь себя защищать…И время уговоров прошло…Я подозреваю, что вы просто не умеете обращаться с оружием, но это нестрашно. Это поправимо. С завтрашнего дня, вы и еще несколько человек из новых сотрудников, поступаете под начало нашего военного инструктора, Паустова Сергея Сергеевича. Он из казаков, унтер офицер, и на нашу сторону перешел совершенно сознательно. Он вас обучит стрелять, обращаться с саблей, шашкой и штыком… Думаю, недели вам хватит…И еще, возьмите ваш револьвер…Он при стрельбе несколько забирает вверх, но, мне кажется, вы приноровитесь… …Решетников шел домой и думал: какая же сука из его подчиненных стучит на него? …
Полигон находился в Никольской роще, на большой округлой поляне, огражденной колючей проволокой. На время стрельб Михаил был освобожден от основной оперативной работы и проводил со своей Александрой больше времени, чем обычно. Сережка, по-мальчишески недоверчиво поглядывая на округлившийся живот матери, сблизился с Михаилом еще больше, часами просиживал с ним за графитной доской. терпеливо заучивал «азы и буки». Александра смотрела на сына, с нетерпеньем ожидающего возвращения с полигона « тятеньки», и не знала, что ей делать: радоваться или ревновать… А Решетников, отстрелявшись и возвращаясь, домой, по пути, между делом, забегал в магазин Ахунова на Азиатской улице и покупал для Сережки то большого сахарного петушка на длинной палочке, то до одури пахучие полоски вяленой дыни в шуршащей пергаментной бумаге. Не забывал он и Сашеньку…Кто-то ему сказал, что беременным пользительно сладкое красное вино, и с тех пор кагор в их доме не переводился…Хотя справедливости ради, нужно сказать, что к вину Александра тяги не имела и если и выпивала иной раз маленький стаканчик, так и то, чтобы Мишенька не расстраивался. И хотя от Уфимской улицы, упирающейся в Соборную площадь, до дома было не более четверти часа неторопливого ходу, будущий отец предпочитал проехаться на конке «Бельгийского анонимного общества», тряском и необычайно популярном в городе транспорте. Конка в Челябинске была двухэтажной, с открытым верхом, с огромным количеством рекламных щитов и революционных лозунгов. Особенно умиляла Решетникова надпись, украшающая экипаж: «Пять коп. и не тря!» Хотя тряски, особенно на стыках рельсов, было предостаточно… Ну а ко всему прочему, мандат ЧК позволял пользоваться конкой совершенно бесплатно. Неделя пролетела незаметно, и в августе Михаил вновь вернулся в свой кабинет в доме купца Ляхова уже обученным стрелком.
8.
…В церкви, по случаю буднего дня, прихожан было мало, да и те, заприметив вошедших людей в черной коже, при оружии, поспешили ретироваться… Очень высокий, много выше Решетникова, и худой какой-то нездоровой, чахоточной худобой пожилой протоиерей подошел к чекистам. — Негоже, братья, в святой храм с оружием приходить…Грех это… — Да что вы, святой отец, раскудахтались, право слово. Грех, грех…Кто у вас тут главный? Пригласите его сюда побыстрее. Скажите ему, что его хочет видеть начальник отдела городской ЧК товарищ Решетников… — Если вы, товарищ Решетников, имеете в виду настоятеля храма, то он перед вами…Если вам желательно кого- либо постарше, то они все вокруг вас…Кто вас больше интересует, Бог и его окружение или его недостойный служитель? — Слушай ты, церковная крыса! Прекрати здесь балаган устраивать, тут тебе не Шапито, да и сотрудники мои никудышные зрители… И если к вам в храм пришли работники ЧК, заметьте, сами пришли, значит вопрос и в самом деле довольно серьезный. Он обернулся к своим сослуживцам, сбившимся в кучку возле Царских ворот, и приказал: -Погуляйте пока, товарищи, нам с батюшкой поговорить надобно…Кстати, отец святой, как мне к вам обращаться, я что-то от вас ни имени, ни фамилии не услышал? -Обращаются ко мне чаще всего запросто — отец Даниил, но можно и по фамилии, тогда уж лучше так: протоиерей Даниил Яблонский…А впрочем , как вам заблагорассудится… — Ишь ты, Яблонский…- хмыкнул Михаил пренебрежительно.- Из дворян, небось? — Из них, из них…- согласился старик, оправляя цепь наперсного креста. — Так вот, гражданин Яблонский. Учитывая, что храм ваш крупнейший из православных, и к тому же расположен в самом центре города, мы можем предположить, что его по большим церковным праздникам, да и просто по воскресениям посещает самый разнообразный люд. Это так? Протоиерей согласно кивнул седой головой. — Да. Храм наш посещаем, слава Богу…Не забывают о вере прихожане…Спасибо им за это. — Вот и славно, гражданин священнослужитель… Я так и думал. Тогда мы с вами поступим следующим образом: вы через молодого человека, нашего сотрудника, который будет постоянно находиться при церкви в качестве, ну например, дьякона, алтарного или регента, раз в неделю будете сообщать нам наиболее интересные и важные факты, слухи, предположения, одним словом, все то, что можно услышать во время исповеди. Идет? — Нет, не идет , — рассмеялся отец Даниил и сверху вниз посмотрел на чекиста. — Тайна исповеди не разглашаема, это не обсуждается. И к тому же и регент, и диакон, и алтарный в храме уже есть…И если это все, молодой человек, что вы имели мне предложить, я вынужден откланяться. Мне еще к заутрене готовиться. — Священник повернулся и даже приоткрыл небольшую дверцу, ведущую в алтарь. — Стоять, вражина!- громким шепотом приказал Решетников, расстегивая кобуру. — Я тебя еще не отпускал. Протоиерей отец Даниил вновь рассмеялся, еще более громко и, как посчитал Михаил, дерзко. — Да вы что, юноша, всерьез предполагали меня своей пукалкой склонить к подобному греху? Господи, до чего же вы наивны…Да за подобное предложение я вам, до семинарии естественно, просто по щекам надавал бы. Мальчишка! Пугать решил! Он перекрестился и пригнулся, чтобы войти в низенькую дверцу. — А ну, блядь, стоять!- в бешенстве закричал Решетников и выстрелил три раза подряд в большую изогнутую от времени икону, висевшую над алтарной дверцей. На склоненную фигуру священника неправдоподобно медленно посыпались обломки расколотой иконы и штукатурка. На звуки выстрела чекисты, дожидавшиеся на улице, вбежали в храм и столпились возле своего начальника. А тот, уже не сдерживая мата, приказал, размахивая револьвером: — И эту старую суку, протоиерея, и всех, кто сейчас в церкви, в машину. Всех в подвал… Там с ними уже по- другому поговорим… Теперь уже рассмеялся он и, закашлявшись, сплюнул на обломок иконы, упавшей к его ногам… …Георгий Победоносец, восседая на огненной лошади, воздев копье, пронзал свернувшегося спиралью чешуйчатого гада… …Молодец, Михаил Иванович, хорошо провел арест. – похвалил его Степной, впервые обращаясь к Решетникову на ты. — То, что протоиерей не согласился нам помогать, не беда. Этого следовало ожидать. Голубая кровь, дворянин…Ну да и пес с ним…Для молодой России сейчас богатства, хранимые в храмах и монастырях, дорогого стоят…Голод приближается…А только в этой церкви одного серебра на вскидку более сорока пудов наберется…Представляете, сколько хлеба можно на эти деньги купить, сколько голодных накормить? Он опять перешел на вы, впрочем, не акцентируя этого. — Допросами, я думаю, займутся другие, а вам, Михаил Иванович, предстоит небольшая служебная командировочка … — Далеко? – удивился Решетников.- Я-то, конечно, не против, но у меня, знаете ли, жена может родить в любое время… Как бы не прозевать… — Не прозеваете, товарищ Решетников, — улыбнулся, обнажив темные, прокуренные зубы Степной. Он с удовольствием отметил, насколько быстро из молодого, интеллигпентного геолога этот человек превратился в холодного, циничного, опытного чекиста, легко поставившего на одну доску скорые роды жены и служебную необходимость… — Поездка займет едва ли больше двух недель. Председатель ЧК приоткрыл ящик стола и бросил перед Михаилом пухлый конверт плотной темной бумаги, запечатанный темно-коричневым сургучом. -Вот вам пакет. В нем все, что вам нужно. Фотографии, имена, адреса…Паспорт. Несколько французских фраз, написанных русскими буквами… Два дня на изучение и в субботу пожалуйте ко мне на последний инструктаж. Степной простился с Михаилом за руку, и Решетников, все так же недоумевая, отправился домой.
9.
… Михаил плотно поужинал в привокзальном буфете, выпил пару стопок водки, к которой приохотился, служа в Челябинской ЧК, и с уверенным видом вышел на привокзальную площадь. Париж с его раскидистыми каштанами и акациями, небольшими летними кафе, с пестрыми зонтами над крошечными столиками и узкими, мощеными брусчаткой улицами неожиданно не приглянулся Решетникову. Родной уральский город, с краснокирпичными купеческими домами под зелеными крышами, просторными, полупустыми базарными площадями и вечнозеленой тайгой, подступающей к самым городским окраинам, казался чекисту много привычней и милей. Не удержавшись от соблазна, он от вокзальной площади до нужного ему места надумал проехаться на автомобиле, но уже через несколько минут горько пожалел о своем решении. Такси постоянно дергалось, что-то в его железных шестернях все время заклинивало, приторно воняло спиртом… В полутемном подъезде дома, где проживал Львов, Михаил забился в угол за полукруглую массивную пилястру и, присев на расстеленную газету, решил дождаться ночи… Сон, как назло, не шел, и Решетников вновь и вновь прокручивал в голове последний свой разговор с председателем Челябинской ЧК. — Запомните, товарищ Решетников, — напутствовал его перед отъездом лично Федор Семенович Степной. — Господин Львов — это не просто бывший глава Временного Правительства . И он не просто бывший крупный помещик и даже как будто приятель Льва Николаевича Толстого…Нет. Это идейный враг, хитрый и подлый, пытающийся даже оттуда, из-за бугра, руководить «Белым движением» в России, а тем паче за границей. Мы, чекисты, не палачи и не мстители. И если даже бывший дворянин или там положим офицер, придет к нам, искренне раскаявшись, отречется от своего подлого и гнусного прошлого, а тем паче предложит нам свои умения и знания, то мы их, как правило, не трогаем. Примером может служить наш инструктор Если у вас не получится доставить гражданина Львова Георгия Евгеньевича живым в Россию, особо не переживайте: решением Реввоенсовета данный гражданин уже давно заочно приговорен к высшей мере.Вы все поняли, Михаил Иванович? Если да, то ступайте, получайте согласно мандату деньги и билеты. Валюту особо не жалейте, но и разбрасываться ею тоже не следует. В Советской России трудные, голодные времена…Тем более, вам по приезду придется отчитаться за каждый потраченный франк. И еще: в отелях лучше не светиться. Нам известно, что Львов живет сейчас один, охраны нет, консьерж в противоположном крыле дома, так что дело сделали, отдохнули денек, где-нибудь в Булонском лесу, и домой — Федор Семенович коротко хохотнул и, пожав Решетникову руку, отпустил его. Где-то за спящими каштанами большие часы на городской ратуше отбили полночь, и Михаил поднялся, направился к лифту. Он не без волнения, чутко прислушиваясь к подъездному полумраку, осматривал дверной замок.
В это самое время, за несколько тысяч километров отсюда, в ярко освещенном кабинете председателя Челябинской ЧК Степной широко раскрытой ладонью хлестал по полным трясущимся щекам инструктора по стрельбе Паустова. — Ты что же, сучье племя, так долго молчал? Отчего не сообщил о своих подозрениях в первый же день? Чего дожидался, гад? Чего? Чего?!На кого не надо стучишь, бляденыш, а на явного врага нет! За жопу свою опасался, сука трусливая? Каждый вопрос рассвирепевшего Степного сопровождался громкой увесистой пощечиной. Инструктор широко раскрывал по-рыбьи пухлые губы, носом громко всасывал в себя кровавые сопли, но трясущиеся руки, брошенные «по швам», так и не смел убрать, оторвать от дрожащих, по-бабьи полных ляжек. Товарищ председатель Челябинской Чрезвычайной комиссии, — причитал он, преданно заглядывая в глаза Степного. — Да я же видел его всего один раз, да и то ночью, когда они к штабному вагону вдоль насыпи шли… Вот и сумлевался…Да мы, если честно, все больше на его Превосходительство генерал – майора Акутина Владимира Ивановича смотрели, а не на его адъютанта… Не кажный день мимо тебя живые генералы ходят… — Генералы…- передразнил избитого инструктора Федор Семенович и оттолкнув того от себя, привалился к столу. — Скажи, Паустов, отчего ты решил, что Решетников и тот офицер одно и тоже лицо? Инструктор наконец-то решился вытереть окровавленное лицо рукавом гимнастерки и, уже слегка успокоившись, ответил: — Понимаете, Федор Семенович, уж больно курсант Решетников умело с револьвером обращается…Я бы даже сказал, с шиком обращается…Разве что через курок его не вертел тогда, на стрельбах…Да и по результатам видно, что стрелок отменный: с любого положения хуже девятки не выбивал…Из трехлинейки так себе, как все, а вот с наганом явно знаком… Чекист закурил и, выпустив дым носом, как обычно, ровным голосом поинтересовался: — Ну а все-таки, Сергей Сергеевич, отчего вы так поздно просигналили о ваших подозрениях? Паустов потоптался, глядя в пол, и шмыгнув носом, выдавил… — Опасался я , товарищ председатель, что обознался… Видел, что Решетников с вами как бы в приятелях ходил, вот и опасался… — Да не опасались вы, Паустов, а обоссались, от страха обоссались,- отмахнулся Степной, и, отпустив инструктора, крутанул ручку телефона… …- Алло, барышня, соедините меня с 24… Да, да… …Алло, это Шигобуддинов? Это Степной на проводе. Слушай, Шигобуддинов, возьми человечка и дуй на Привокзальную…В квартиру нашего сотрудника Решетникова…Знаю, что его нет…Так вот, прихвати его сучку, баба у него на сносях, и сюда…Да, да именно сейчас и пацаненка, сына ее, не забудь…Давай, дуй! Да на хрена она мне здесь нужна? В подвал! Конечно, по разным… Федор Семенович подошел к черному, как смоль, окну и удивленно протянул: — Вот, значит, кто вы такой, господин-товарищ Решетников!? Личный адъютант его превосходительства генерал – майора Акутина Владимира Ивановича, штабс-ротмистр Колчанов Владимир Петрович… Ну-ну, ваше благородие, шутник, мать твою… Ты только возвращайся поскорей, мальчоночка, а уж мы с тобой по- другому пошутим…Ох, по- другому… …
Отмычки, сработанные в Чебаркуле мастером воровского инструмента под непосредственным надзором местной ЧК , не подвели, и Михаил, даже не имея опыта в подобных предприятиях, с дверным замком справился довольно быстро. В спальне никого не было: хороший слух молодого человека с легкостью бы уловил дыхание спящего. Тесная кухонька, завешанная сковородками и связками шуршащего лука, тоже оказалась пуста.- Ушел, сука!- Мысленно ругнулся Решетников и, стараясь наступать на носки мягких, полуоткрытых туфель, подошел к окну. Неожиданно в глубине кабинета, на дубовом письменном столе вспыхнула лампа, и растерявшийся Михаил увидел сидящего в жестком кресле Георгия Евгеньевича Львова собственной персоной. Тот, словно наслаждаясь замешательством Решетникова, неспешно выбрал длинную папиросу из серебряной папиросницы, прикурил и, выпустив облако плотного, терпкого дыма, ухмыльнулся в густые, все еще черные усы. — Не ожидали, молодой человек, застать меня в кабинете в такой поздний час.? Сочувствую…Но прошу простить, бессонница. Ничего не помогает, да и годы уже, наверное, дают о себе знать… Он близоруко сощурился, разглядывая ночного непрошенного гостя, и наконец, устало махнув рукой, предложил: — Да вы присаживайтесь, пожалуйста. Что уж тут стоять? Меня пристрелить вы всегда успеете…- Львов глухо рассмеялся и, поперхнувшись дымом, надолго закашлялся. Решетников присел на предложенный стул, стоящий в углу кабинета, куда не падал свет лампы, и словно ненароком опустил руку в карман своего легкого пальто, где носил оружие. Бывший глава Временного правительства, заметив это, вновь рассмеялся. — Да бросьте вы свой, что у вас там, — пистолет, нож, кастет? — к чертям собачьим. Бросьте. Лифт в нашем доме отвратительно громко дребезжит во время движения, да и замки в дверях давно уже не смазывались…Так что о вашем приближении я уже довольно давно предупрежден, и если бы я, мон шер, имел желание вооружиться, поверьте старику, у меня было для этого время.Решетников подавленно молчал (убить человека, сидевшего за столом, вот так, запросто, ), он, пожалуй, не смог бы. Молчал и Львов, негромко постукивая подушечками сухих старческих пальцев по полированной поверхности стола. Тягучая тишина, повисшая в кабинете, лишь слабо разжижалась мерным тиканьем больших напольных часов, стоящих о правую руку хозяина кабинета. …- Вот так, значит…- заговорил, наконец, Львов. — И по мою душу ЧК пришло… Михаил нетерпеливо завозился на своем стуле, но Георгий Евгеньевич движением руки успокоил его. — То, что я приговорен в России нынешней властью, для меня отнюдь не неожиданность, но то, что исполнителем приговора, палачом моим, будет личный адъютант его превосходительства генерал – майора Акутина Владимира Ивановича – вот это уже нонсенс. Решетников вскочил было, но Георгий Евгеньевич, все также невозмутимым бесцветным голосом продолжил. — Да-да, господин Колчанов, Владимир свет Петрович, к чему лукавить? Я вас узнал сразу же, как только вы появились в моем кабинете. Еще бы: блистательный дворянин, штабс-ротмистр, превосходный рисовальщик с европейским именем и образованием… А каков кавалер!? Все девицы на выданье после бала, данного генерал- губернатором Екатеринбурга в Дворянском собрании по случаю дня ангела своей младшей дочери, по вас с ума сходили…А вы тогда все фронтом бредили, все переживали, что всю кампанию при штабе проведете… Уж лучше бы в штабе… Какова карьера, прости, Господи… Львов снова закурил, печально разглядывая растерявшегося Михаила. — Вы…вы ошибаетесь…- хрипло заговорил наконец-то Решетников. В его голове все спуталось, казалось, окончательно: адъютант, дворянин, художник, бал в Дворянском собрании, дочка генерал-губернатора…Бред… — К неведомому мне Колчанову я не имею никакого отношения…Вы явно ошиблись…Хотя это по большому счету и неважно… Львов громко рассмеялся. При этом усы его, густые и черные, хищно зашевелились, словно жили отдельной от остального лица жизнью. — Я ошибаюсь? Ну, положим…Тогда, может быть, вы, когда убьете меня, соизволите прогуляться на улицу Друо, что на Больших Бульварах, где на аукцион выставлены несколько ваших работ..? Вдовствующая княгиня Белосельская – Белозерская от нужды кое-что из имущества своего распродает… Золото давно уже с молотка ушло, теперь вот картины…В том числе и ваши, вы уж простите ее, господин Колчанов. Там же, кстати, и автопортрет ваш вы лицезреть сможете, если его, конечно, уже не продали … Низвергнутый министр раздавил окурок в пепельнице и, застегнув верхнюю пуговицу белой сорочки, пожевал крепкими зубами нижнюю слегка отвисшую губу, привстал и попросил чекиста:- Вы, молодой человек, пожалуйста, предупредите меня перед выстрелом…Я, знаете ли, человек штатский… Я глаза закрою, мне, пожалуй, эта моя маленькая слабость простительна… Как вы думаете, Владимир Петрович, простительна? Решетников, побелев лицом, подбежал было к нему, трясущими пальцами выцарапал револьвер из кармана пальто, и зачем-то крутанув барабан нагана, прошипел, с ненавистью глядя в лицо Львова. -Живите пока что, но…Я сейчас же, сегодня же, хотя нет, уже ночь, так, значит, завтра утром обязательно проверю все, что вы мне здесь наплели…Но знайте, если хоть на йоту этот бред не подтвердится, я вернусь…Вы слышите, господин бывший министр? Я обязательно вернусь…Но уж тогда, гражданин Львов, глаза вы прищурить точно не успеете. Он выбежал из кабинета, через мгновенье громко и разочарованно? звякнул замок в двери, обиженно загремела кабина лифта, уходящая вниз… Львов расслабился, вновь расстегнул верхнюю пуговицу, ослабил узел галстука и подумал, вслушиваясь в тишину квартиры: — Нет, все — таки художник явно доминирует над офицером в этом молодом человеке…У него слишком тонкая натура для обыкновенного вояки…
10.
Господин Лурье, лысоватый пожилой человечек необычайно маленького роста неспешно перебирал короткими ножками, добираясь до дома под восьмым номером, что выходил своими высокими стрельчатыми окнами и свежо выкрашенным в желтый цвет фасадом на улицу Друо. Дом этот был приобретен еще его дедом в 1830 году, и тогда же в нем произошли первые аукционные торги… Господин Лурье любил приходить сюда задолго до персонала, когда в небольших залах аукциона царили тишина и утренний полумрак. Аукционщик варил для себя кофе и не торопясь бродил с опустевшей чашкой от одного лота к другому. К девяти часам обычно подтягивались служащие: курьеры, эксперты, грузчики, престарелая уборщица, и таинственное очарование тихих комнат пропадало, перечеркнутое шорохом бумаг, топотом ног, обрывками фраз и шлепаньем мокрой тряпки по мрамору пола в фойе. …Отомкнув замок, господин Лурье неожиданно увидел рядом с собой довольно молодого, не старше сорока лет, мужчину в строгого покроя модном демисезонном пальто. Лицо незнакомца можно ;было бы назвать красивым, если не обращать внимания на воспаленные, потрескавшиеся губы и красные словно от недосыпа глаза.
-. Que voulez vous , monsieur?*
— Аукционщик первым прошел в дом и включил верхний яркий свет. Мужчина, тяжело дыша и все так же молча, осматривался, отдавая явное предпочтение развешанным по стенам картинам.
-Vous etes interess; de quoi : de peinture, de gravure, sculpture, peut ;tre les livres et les manuscrits?**C’est les toiles du peintre russe Kolchanov de la collection de la princesse Belosel’sky – Belozersky que m’intеresse.…***- начал было Михаил и вдруг пораженно умолк, внезапно осознав, что он, человек без имени и прошлого, только что ответил этому смешному коротышке на его вопрос по-французски. Решетников обессилено опустился на небольшую обитую вытертым бархатом скамеечку и, обхватив голову тонкими длинными пальцами, потерянно застонал… Господин Лурье выждал, пока его визави несколько успокоится и подошел к простенку, где висело всего две небольшие полотна в строгих, темного дерева багетах.
— Vous ;videmment le connaisseur. Le peintre Kolchanov se rapporte ; l’;cole magnifique classique, mais ses tableaux sont extr;mement rares chez nous. Disent qu’il a p;ri qu’est s;rement triste. Ses tableaux sont achet;s beaucoup et tr;s volontiers. Il nous restait seulement deux toiles. Deux paysages et un nature-mort avec les pavots ont vendu exactement deux jours en arri;re…****
Михаил поднялся, сдвинул свою соломенную шляпу на затылок и более спокойно, расстегнув одну за другой пуговицы пальто, подошел к аукционщику. …Кусок полуразрушенной каменной кладки, утопающей на заднем плане в зарослях крапивы и конопли, легкие мостки, уходящие разбухшими досками под прозрачную воду, а на противоположном берегу, на возвышении, небольшая беленая церквушка с покосившимся куполом-луковкой… Если бы не небольшая бронзовая табличка, темная и тусклая, на которой рука гравера начертала имя художника, Решетников, несомненно, принял бы этот пейзаж за свой, тот самый, что совершенно точно висит сейчас в их с Александрой доме. Х-к Колчанов В.П. «Городские мотивы» .1916 годъ. — Михаил внимательно рассмотрел гравировку и, хмыкнув, подошел ко второму полотну, несколько большего размера. …Молодой офицер в парадном гусарском доломане, казалось, увлеченно читает библию, раскрытую на тонкой муаровой ленточке, служащей закладкой. Левая рука его изящно, непринужденно упала на черный с золотыми деталями эфес офицерской шпаги, явно выполненной в златоустовских мастерских, правая рука легко подпирает голову.. Художник выполнил автопортрет в искусной классической манере, явно подражая старинным мастерам. Каждая складка материи, каждый узор серебряного шнура, которым был расшит доломан, поражали достоверностью и точностью линий. Казалось, что при определенном желании можно пересчитать все шелковые нити крученой богатой кисти, украшающей эфес шашки. Слегка наклонив голову, Решетников даже сумел прочитать первые строки Священного писания в лежащей на столе перед офицером книге: «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч». Но не страшное пророчество, столь искусно выписанное славянской вязью, ни парадный мундир, ни даже ярко-кровавый камень, сверкающий на мизинце гусара, не могли, казалось, отвлечь взгляд Решетникова от лица, изображение которого он видел перед собой. Несомненно, моложе, более уверенное и ухоженное, оно тем не менее в мельчайших подробностях повторяло лицо чекиста….Тот же высокий лоб, те же голубовато-зеленые глаза, те же светло-пепельные, слегка вьющиеся волосы… Х-к Колчанов В.П. «Автопортрет с библией», 1917 годъ. Михаил как-то вдруг сразу ослабел в ногах, сунулся было за папиросами, но тут же, по- видимому, забыв про них, вновь перечитал надпись на бронзе. — Так вот значит как…- протянул он и только сейчас услышал, как пораженный сходством портрета и неизвестного гостя маленький француз, всплескивая ручками, повторяет раз за разом:
-Mon Dieux, que vous etes semblables! C’est vous -m;me , monsieur Kolchanov?… Je ne comprends rien*****
Словно пьяный, Колчанов качнулся, оперся было о стенку рукой, но тут же выпрямился и уже не оглядываясь, все более и более внутренне зверея, направился к выходу.
— Аllez vous? Que ce qu’il passe?****** – заторопился за ним аукционщик, но тот, досадливо дернув плечом, процедил уже перед самой дверью. — Да оставь же ты меня в покое, старик. Все нормально… Вот теперь уже точно все совершенно нормально…Брысь! Небольшой колоколец над дверью прощально звякнул, а господин Лурье, маленький удивленный аукционщик, провожая взглядом сквозь окно окаменевшую спину Колчанова, вслух недоумевал:
-Oh, vraiment ces Russes… Apr;s tous celui-ci est de tranquilles…*******
…Весь последующий день Владимир Петрович Колчанов пил… Бездумно, тупо глядя себе под ноги, брел он по огромному, хмельному, залитому летним солнцем городу. Шел, не обращая внимания на шарахавшихся от него прохожих, клаксоны редких автомобилей, топот лошадей и пронзительные свистки жандармов, останавливаясь только тогда, когда до слуха его доносились плач гитары либо простенькие балалаечные мелодии. Тогда в сознании Владимира словно что-то прояснялась, и бывший штабс-ротмистр, небрежно бросая мятую купюру на стойку, проходил вглубь зала очередного ресторанчика или бистро. Уже довольно скоро вслед за ним, настолько же пьяные, как и сам Колчанов, потянулись гораздые на дармовое угощение парижане. Грязные и оборванные. Они шли, громко обсуждая необычный загул этого мрачного русского, отчаянно жестикулируя, спорили, куда, в какой кабак и на какую улицу приведет их сейчас этот случайно подвернувшийся поводырь… Впрочем, уже через пару часов пьяная кавалькада сама — собой рассосалась: пить водку не закусывая, а Владимир заказывал только ее, французы явно не умели. Ближе к ночи, в небольшом русском ресторанчике Колчанов почти насильно усадил за свой столик фиглярски разодетого полового, как оказалось, бывшего урядника Даурской казачьей сотни. — Ты мне скажи, мон шер. Домой, я хочу сказать в Россию, хотел бы вернуться? Только правду, непременно правду…Я по глазам пойму, если соврешь… — Шли бы вы отсюда, ваше благородие…- почувствовав в надоедливом посетителе офицера, терпеливо уговаривал его терпеливый шестерка. — Что вы мне душу будоражите? Домой. Домой. Да куда домой, когда последний пароход с пожелавшими вернуться в Россию казаками был на пристани под Керчью расстрелян большевиками-чекистами…Всех до одного положили, а их , казаков, там более трехсот человек было… Всех, из пулеметов…А вы — домой…Нет, видно уж здесь придется доживать. Найду себе какую- нибудь блядь французскую, почище, с квартирой… Женюсь А там, глядишь, и детки пойдут…Своих, которых в станице оставил, кажись, и не увижу боле… Половой поднялся из-за стола и, понурившись, не прощаясь, направился к себе, в каморку под лестницей, где ютился последнее время. — Даже он, половой, и то не захотел со мной разговаривать…- Подумалось тяжко пьяному художнику. — Даже он почувствовал во мне всю мою иудскую, продажную сущность… Даже он. Колчанов вновь наполнил граненую стопку теплой и от того еще более горькой водкой, выпил с придыхом и вместо закуски закурил. — Господи!- Владимир приподнялся, упираясь в стол побелевшим кулаком, с трудом поднял стакан на уровень глаз, с омерзеньем рассматривая искаженные граненым стеклом безмятежные лица парижан. — Да отчего же вам всем на все насрать, господа французы!? И на войну, которая все еще идет где-то там? И на великую бедную Россию? И на меня, сукиного сына и поддонка… Ну отчего вы все такие сытые и равнодушные!? Он вновь рухнул на стул и что есть мочи грохнул кулаком по столу. — Водки! Водки, мать вашу, водки! …Память к нему вернулась как-то вдруг, сразу, еще тогда, в том небольшом зальчике аукциона, как только он увидал свой пейзаж с церквушкой. Вспомнилось все: и легкая мазурка на балу в Дворянском собрании Екатеринбурга, и страшный бой с красными в тот зимний вечер, под Кызыл-Куте, где его от души полоснул шашкой по спине узкоглазый казах, а самого генерал – майора, Акутина Владимира Ивановича большевики взяли в плен. Вспомнил он и Катеньку Кудрявцеву, молоденькую сестру милосердия, своей заботой и нескрываемой любовью необычайно скоро поставившая его на ноги, получившую вскоре смертельное ранение в Екатеринбурге во время Чехословацкого мятежа. Но особенно ярко виделся сейчас засыпающему штабс-ротмистру тот последний его бой под Златоустом, когда и у белых и у красных от необычной жары, столь поразительной для уральской осени, из вспотевших пальцев выскальзывали пики и шашки. А кони, исходя плотной вонючей пеной, от жажды падали замертво на жесткую вытоптанную траву, подминая под себя всадников. Вспомнил Владимир Колчанов и тот близкий взрыв, выбросивший его из стремян и надолго лишивший малейших признаков памяти…Но все эти видения, всплывающие одно за другим в его голове, словно апрельские хрупкие сосульки, упавшие с высоких крыш , разбивались о те мерзости, аресты, допросы и обыски, в которых он, бывший штабс-ротмистр Колчанов Владимир Петрович, дворянин и художник, принимал непосредственное участие. Колчанова стошнило прямо на скатерть, и он, с трудом передвигаясь, побрел сквозь ночь к набережной Сены, манившей его странно русским речным освежающим духом…
…Вечно неунывающий полупьяный город засыпал медленно и трудно. Сначала поблекли огни Эйфелевой башни, растворившись в утреннем тумане, а после, словно по команде, один за другим начали гаснуть окна многочисленных небольших ночных кафе и бистро. Сонные официанты лениво стряхивали крошки с белоснежных поутру скатертей прямо на пол, поднимали стулья на столы. Ночные кокотки устало брели в дешевые квартирки на улице «Кота-рыболова», плохо выбритые жандармы, неодобрительно посматривая им вслед, курили, сплевывая сквозь зубы на мостовую. В ближайшем полупустом русском ресторанчике тяжело пьяный тапер, подыгрывая самому себе на расстроенном пианино, пел вполголоса таким же, как и он, пьяным посетителям:
«Уходили мы из Крыма Среди дыма и огня.
Я с кормы, все время мимо, В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая, За высокою кормой,
Все не веря, все не зная, Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы Ожидали мы в бою…
Конь все плыл, теряя силы, Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо. Покраснела чуть вода… Уходящий берег Крыма Я запомнил навсегда»…
Где-то на западе, в предместьях Парижа, тускло и однообразно зазвонил одинокий колокол. Утро все ярче вставало над городом, сонным и равнодушным. Колчанов, толком так и не отрезвевший, с отвращением далеко в сторону отбросил недокуренную папиросу, перекрестился и почти бесшумно соскользнул с парапета. — Эх, исповедаться бы, Сашу бы поцеловать…- запоздало мелькнуло в голове Владимира, но вода, смывая желания и бесполезные сожаления, хлынула свободно, в широко распахнутый в предсмертном крике рот.Широкие зелено-бурые ленты речных растений тяжело колыхались в грязной, с бензиновыми переливами воде, словно прощаясь с легкой соломенной шляпой – канотье, неторопливо уплывающей под каменный мост. Через минуту над серой, влажной от росы глыбой моста, появилось равнодушное парижское солнце.
27.03.2010г.
Слова и выражения на французском языке, встречающиеся в повести: 1.Что вам угодно, господин? Que voulez vous , monsieur?* 2.Что вас интересует: живопись, гравюра, скульптура, а может быть книги и рукописи? 2 Vous etes inttress; de quoi : de peinture, de gravure, sculpture, peut ;tre les livres et les manuscrits?** 3. Меня интересуют полотна русского художника Колчанова из коллекции княгини Белосельской – Белозерской. C’est les toiles du peintre russe Kolchanov de la collection de la princesse Belosel’sky – Belozersky que m’int;resse.***4.Вы явно знаток. Художник Колчанов относится к великолепной классической школе, но его картины крайне редки у нас. Говорят что он погиб, что, несомненно, печально. Его картины покупаются очень и очень охотно. У нас осталось всего два полотна. Два пейзажа и один натюрморт с маками продали буквально два дня назад… L’artiste Kolchanov se ref;re ; la grande ;cole classique, mais ses peintures sont tr;s rares chez nous .On disent qu’il est mort, c’est tr;s triste, bien sur. On achetent ses travaux tr?s volontairement. Il nous ne reste pas que deux tableux. Il y a deux jours que les deux paysages et un nature-mort avec les pavots ont vendu .****5.Боже, как вы похожи! Да ведь это же вы, собственной персоной, господин Колчанов… Ничего не понимаю… Mon Dieux,?que vous etes semblables! C’est vous -m;me , monsieur Kolchanov?… Je ne comprends rien***** 6. Куда же вы? Да что с вами?****** allez vous? Que ce qu’il passe?? 7. Ох уж эти русские… Хотя этот из спокойных… Oh, vraiment ces Russes… Apr;s tous celui-ci est de tranquilles…*******