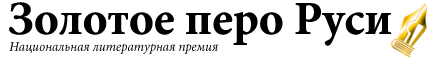Взрослые и ведать не ведали о забавах своих детей…
То, послевоенное лето, было засушливым. Прекрасный лик земли искажала мучительная боль, а с ее разверстых уст, высохших и почерневших, уже готовы были сорваться страшные проклятья прямо в лицо бездумному, красивому лазурному небу. Травы пригибались к земле, точно искали спасения от враждебного палящего солнца под кровом собственной своей тени. Деревья высыхали, роняя свои листья, и стояли голые и убогие, и похоже было, что это дети нарисовали их прямыми линиями на доске.
Люди были немногословны и терпеливы. А за столом рассказывали разные случаи военных лет, когда было еще более голодно. Женщины говорили своим детям, чтобы они ели понемногу, как воробышки, и втихомолку плакали. И хоть люди были скупы на слова, всяческие слухи росли и ширились, как никогда раньше. Говорили, что в других местах, людям живется и того хуже. Что будто идут они себе и идут по проселку, а чуть выйдут на большак, падают, как подкошенные. И что в животах у них доктора находят только дубовую кору да комки бумаги.
А Гжесь, который тронулся умом, после того, как немцы сожгли всю его родню в сарае заживо, кричал на улице, что ему явилась Пресвятая Богородица и поведала, что скоро-скоро упадет в море звезда Полынь и что воды обратятся в хмельную полынную настойку и с шумом выплеснутся на раскаленную землю. И тогда все люди умрут в опьянении, и только дети, не приученные к питью, вступят на ладьи, спустившиеся с небес и тем спасутся.
Но дети это не ведали и предавались своим забавам…
Началось все с того, что в гости к матери Гоги – Фабрики приехал какой-то, то ли родич, то ли знакомый, который иногда носил зеленые очки. Говорили, что у него глаза болят, оттого надо такие очки носить. Потом он уехал, а очки свои забыл. Их нашел в доме Гога-Фабрика. По правде сказать, у отца-то его прозвище было другое. Был у него в хозяйстве самогонный аппарат. Гнал он самогонку для немцев, что в селе стояли, пока их не погнали. А еще был у отца Гоги-Фабрики сепаратор, который он спер где-то перед приходом немцев. А как пришли советские, отца Гоги увели куда-то военные. Так он до сего и не вернулся и никто не знал живой он или сгинул уже где-то.
А Гогу стали звать Гога-Фабрика. Так вот, взял Гога забытые очки и вышел в сад, а потом в поле. Там он надел их и вначале просто остолбенел. Все вокруг выглядело иначе, словно он попал в другой мир, и, бог знает отчего, он ощущал повсюду такую тишину, что слышал лишь биение своего сердца. На солнце, от которого раньше он не знал, как бежать, как скрываться, и на которое не смел поднять глаза, теперь можно было смотреть не мигая, как будто это был неподвижный красный шар. А еще он видел нависшую над землей большую тень, из которой, казалось, вот-вот хлынет дождь.
Так он стоял некоторое время, пока ему не захотелось сорваться с места и помчаться вперед в своих зеленых очках. Он бежал прежде всего потому, что на бегу ветер забирался ему под рубашку, обдувал лицо, шею и руки, охлаждая его. И ощущение этой прохлады связывалось у него с той большой тенью, что виделась ему сквозь очки и что предвещало дождь с его тяжелыми каплями. А еще он бежал , потому что видел, что все вокруг зелено: и картофель, и фасоль, и яблочные деревья. Все то, что раньше он видел сухим и белесым, словно посыпанным мукой. И он перебегал от одного растения к другому, чтобы поближе рассмотреть их и потрогать.
В тот первый день Гога бегал, как одержимый по саду и в поле, пока не добежал до пастбища на Лысом Лугу.
Здесь собирались почти все деревенские ребята от пяти до восьми лет. Они приходили по большей части безо всякого дела, потому что скотины ни у кого не было, а если у кого и была — она сама пала.
Они приходили сюда играть, и Гога дал им поносить очки. Вначале они глядели на солнце, громко удивлялись, потом вдруг срывались с места и мчались от куста к кусту, от орешника к шиповнику. А то и вовсе выбегали за пределы пастбища и оказывались в поле, где росла кукуруза. Они разглядывали отдельно, каждый кукурузный початок, видели, что он зеленый, но, потрогав пальцами, понимали, что он сухой, дивились этому, но не слишком, — они оставляли разгадку этого несоответствия до другого раза – и перебегали к тыквенным плетям, которые тоже виделись им зелеными, но к ним они уже не прикасались, а бежали туда, где росли картофель или фасоль.
Гога бежал вслед за ними и кричал, чтоб они отдали ему очки. А тот, у кого они в тот момент были, начинал упрашивать Гогу, чтобы он дал ему добежать «вон до той осинки или вон до той орешины». И Гога соглашался. Добежав до назначенного места, временный владелец очков просил дать ему только покружиться, и все. И он начинал кружиться, прижимая пальцами дужки очков над ушами, чтобы они не упали. И кружился до тех пор, пока полосы овса и ржи, фруктовые деревья и дома сами не пускались в зеленый хоровод и не сливались с небом, которое тоже было зеленоватым, так что казалось, будто ты накрыт круглым и большим, до самой земли, ореховым листом. И чудилось, что и воздух зеленый, даже бархатисто-зеленый, и его можно взять в пригоршню и раскрошить. И дети протягивали руки, чтобы схватить и размельчить его кончиками пальцев. Тогда Гога–Фабрика, видя, что тот, у кого были очки, уже не придерживает их руками, срывал очки и убегал, чтобы отдать другому.
А тот, кто перед этим кружился, еще продолжал покачиваться стоя, но потом падал на землю, и долго еще у него перед глазами оставались зеленые круги. Упав на землю, он вдруг начинал чувствовать, как болят у него пятки, — пока он бегал, в них вонзались всякие шипы и колючки. Но тогда он их не замечал, а почувствовал лишь теперь, и это терзало его, как кара за содеянное.
С некоторых пор дети собирались на Лысом Лугу только для того, чтобы смотреть через очки.
И когда Гога увидел, что очки в таком большом ходу, он сделался привередливым и объявил, что даст смотреть через очки только тому, кто принесет из дому съестное что-либо: горсть проса или кукурузы. А делал это Гога не потому, что у них дома нечего было на стол поставить, — жили они все-таки в достатке, видимо отец Гоги много припрятал на всякий случай. А все потому, что уж такова была их порода: всюду и во всем искали они выгоду.
И ребята, к удивлению своих родителей, вдруг стали быстро наедаться и выходить из-за стола, когда в миске еще что-то оставалось, и, крепко зажав что-то в обоих кулаках, спешили поскорее прошмыгнуть в дверь.
День когда началась эта история, был такой же, как и все другие дни. И всё же многое в тот день было странным – так по крайней мере думал Алесь, сын Казимира Станкевича. Прежде всего, почему-то все сели обедать раньше, чем обычно. И потом, когда уже сидели за столом, его отец не стал рассказывать, как во время войны, приходилось есть даже яблоневые листья, изъеденные тлей, и как это было вкусно.
Посреди стола стояла миска с похлебкой из лебеды. Они ели, а Алесь с тоской думал, что на столе нет ничего такого, что можно было бы тайком отщипнуть и заплатить Гоге за то, чтобы побегать и покружиться в зеленых очках.
И вдруг отец ласково спросил его: — А что, сынок, небось давно не ел, как люди-то едят?
Алесь подумал, что отец его просто так спрашивает, и ответил: — А ты, тятя, будто и не знаешь…
-Да знать–то знаю, да вот в толк не возьму, что ты про то думаешь. Чего б ты хотел съесть больше всего?
Алесь опустил голову, закрыл глаза и стал думать, что ему хочется…Странный тятя, будто сам не знает, что им есть приходилось… И не было в той еде ничего такого, чего б хотелось очень очень. Ели всё подряд, чтоб только в желудке что-то было. Алесь перебирал в памяти всё, что ему доставалось со стола за его недолгую жизнь, но так и не мог ничего придумать. И вдруг….Его голову словно огнем опалило, и он как наяву увидел: вот мама достает из печи жаркий, раскаленный еще, каравай ржаного хлебы и в хате пахнет так, что рот невольно заполняется слюной. А потом от каравая отрезают горбушку, она еще обжигает руки, но он откусывает от нее кусок…Губам горячо, язык обжигает, от запаха хлеба кружится голова…Когда же это было? Алесь и вспомнить никак не мог! Когда-то давно! Неужели это было? Но ведь он помнит…Было, значит!
-Ну так что, сынок? – снова спросил отец.
Алесь, который все это время сидел с опущенной головой и закрытыми глазами, пролепетал одними губами, боясь, что отец рассердится – откуда бы взяться привидевшейся ржаной горбушке: « Хлеба, тятя!»
Он отчетливо услышал, как в тишине отец скрипнул зубами, встал и громко отодвинул табуретку. Алесь испуганно открыл глаза. Отец стоял у стола, невидящим мрачным взглядом смотрел в столешницу и губы его шевелились, неслышно произнося какие-то слова.
Потом он схватил со стола нож, резко шагнул к печке.
-Не надо, Казимеж! Может, обойдемся? – вскликнула отчаянно мама.
-Надо! – оборвал ее отец.
Алесь ничего не понимал. Припадая на давно искалеченную ногу, отец подошел к печке и стал скрести острием ножа в одном месте, между кирпичами. Мама тихо заплакала. Отец всё скрёб и скреб между двумя кирпичами печи, слышно было только, как дзинькала сталь ножа. И вдруг на пол что-то упало и покатилось. Отец подобрал это с пола и стал отчищать подолом старой рубахи.
-Вот смотри, сынок! – протянул он руку в сторону Алеся.
На отцовской заскорузлой ладони лежал желтый кружок – монета.
-Этот злотый, сынок, еще твой дед сюда заложил. А получил он его от пана Касимского, когда сына его спас из реки! Меня тогда еще на свете не было.
И отец вышел на улицу. Мать все так же сидела закрыв лицо руками и всхлипывала.
Алесь видел, как около отца на улице остановился один мужик, потом второй, третий…Они о чем-то говорили, спорили, размахивали руками. Алесь посмотрел на печку, где теперь на белой известковой поверхности зияла коричневая щель. Смотреть было не очень приятно, потому что от щели тянулся вниз по побелке красноватый след кирпичной пыли. Все это напоминало рану с кровью и Алесь отвел глаза.
-Анна! Пиджак подай мне! Мы с мужиками до города подались!
Мама сорвалась с места, сдернула с гвоздя отцовский пиджак и выскочила в сенцы.
Алесь встал и снова поглядел в окно. Мужики, человек пять, продолжая о чем-то спорить, уходили в сторону большака.
-Мам ! Я гулять! Ладно?
-Иди уже! – раздалось в ответ.
Алесь выскочил в сенцы, где мать сунула ему в руку большую вареную картофелину, еще теплую. И он отправился на Лысый Луг. Там собрались все ребята, и почти все принесли то, что требовал Гога. Вскоре пришел и он сам. Все столпились вокруг него, и каждый показывал то, что принес. Но Гога отстранил их.
-Сегодня буду смотреть только я. А вы будете ходить за мной и спрашивать, как что выглядит, и я вам буду отвечать. Пошли к реке! – И Гога помчался через поле. Все побежали вслед за ним. Те, которым только раз удалось взглянуть через очки, спрашивали:
— А какая кукуруза у дяди Рудовича?
-Зеленая.
-Неужели зеленая? – не верили ребята, глядя на белые поникшие листья кукурузы.
А те, которым ни разу не удалось посмотреть через очки, сомневались еще больше.
-Побожись!
-Вот ей-богу!
Потом, уже в другом месте:
-Ну, а фасоль у дяди Цибулянского?
-Зеленая!
-Да неужто?
-Зеленая!
-Побожись!
-Ну, ей богу!
И дальше:
-А конопля у дяди Шипулинского?
-И она тоже.
-Скажи, пусть отсохнут у меня руки и ноги!
-Пусть отсохнут у меня руки и ноги!
Так продолжалось пока не выбежали к реке. Здесь они остановились. Вода в реке высохла – не река унесла ее, а засуха. И ребята брали камни с высохшего дна и шли с ними к Гоге. Особенно те, которые никогда не смотрели через очки.
-Ну, какой он?
-Зеленый.
-Надо же!
И все в том же духе.
Вот тут Алесь и увидел в россыпи этот камень. Он был зеленого цвета. Он зажал его в кулаке и отнес Гоге.
-Ну и какой он?
-Зеленый?
-Да как же не быть ему зеленым, если он и без очков зеленый? Так я и думал, что с этими очками дело нечистое.
Все ребята засмеялись. По правде говоря, Алесь поступил так потому, что хотел насолить Гоге, — он знал, что тот ни за что не даст ему очки. Гоге показалось, что ребята потеряли веру в очки, и он сказал:
-Кто принес то, о чем я говорил, пусть берет очки, пока мы дойдем до деревни.
Марик, сын дяди Кружинича, протянул ему узелок с кукурузной мукой и взял очки. Все устремились за ним.
-Ну что?
-Зеленый.
-Неужто зеленый?
-Зеленый.
Через некоторое время Гога взял у него очки и отдал другому. И тот, у кого он отбирал очки, бежал позади всех, словно отбившийся от стада, и уже ни о чем больше не просил.
Так бежали они кружным путем, пока не добрались до Мумаевой горки.
И здесь они остановились как вкопанные. Все почувствовали, пока бежали вверх, к вершине горки, на которой теперь стояли, едва заметное дуновение ветра. И этот ветер донес до них из деревни запах…хлеба!!! Они этого запаха давно не слышали. Видно, кто-то уже разучился печь хлеб и у кого-то подгорело, но это был он, знакомый запах ржаной горбушки.
И тут многие ребята вспомнили, что говорили их отцы перед тем, как уйти в город. Они замерли, словно пораженные громом, — только ноздри у них раздувались.
Эта неподвижность и немота длились всего несколько мгновений. Опомнившись, они дали такого стрекача, точно их подгоняли крапивой. Очки в это время были у ПавлА, сына тети Марии. И Павло совсем позабыл о них. Очки свалились у него с носа, а он даже не остановился их поднять. И все, кто бежал за ним следом, не замечая этого, топтали их ногами, пока от очков не остались одни осколки. Алесь, который бежал последним, на самой вершине горки нашел половину оправы с кусочком цветного стекла. Но запах хлеба манил его всё сильнее и он швырнул на землю половинку очков и, не помня себя, стал с гиканьем отплясывать на том месте, где они лежали, а потом, всё с тем же гиканьем помчался в деревню, раскинув руки в стороны и гудя как самолет, — ему казалось, что так он скорее попадет домой.
И только Гога-Фабрика, который не почуял ничего необычного в том ветре, что дул со стороны деревни, не понял случившегося и с плачем стал подбирать осколки своих очков.