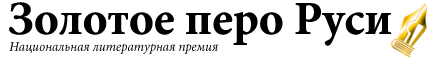Дом
Я не хочу сравнивать дом с крепостью, хотя это так. Этот образ навевает состояние осады, войны. Во мне к моему дому живет беззаветная любовь. Она протянулась через всю жизнь.
Дом моего детства, где я вырос и даже строил его. Сначала просто наблюдал, как отец на подводе с каурым жеребцом привозил камень для фундамента. Камни были тяжелые, плоские, мне не поднять. Отец-фронтовик брал их и складывал горкой, снова уезжал на сопку, ломал там плиты и возил три дня.
Вскоре и я стал активным строителем. В широкой и круглой яме всей семьей попробовали месить ногами глину с соломой и коровьим навозом. Получалось плохо. Тогда отец посадил меня на каурого жеребца. Я уже был хорошим наездником, заехал в яму и пустил лошадь по кругу. Сначала каурый не хотел трудиться, брыкался. Чуть не сбросил меня в глину. Было много смеха и слез. Папа шутил и подбадривал, затем встал в центре, принялся водить каурого на поводу, пока тот не привык. Учился и я управлять лошадью. И вскоре всё получилось. Из хорошо промешанной глины валяли вязкий саман-валок. Из него отец выкладывал стены. Неделю валки сохли, укрытые соломой. В субботу готовили новый замес, а в воскресенье выкладывали новый ряд. И так все лето.
На следующий год я подрос и крыл с отцом крышу, стелил полы, пилил доски, забивал гвозди, а было мне всего девять лет. Особенно с увлечением я красил ставни, выводил кистью орнамент, нарисованный старшей сестрой Валей. Я был рад, что мы успели с папой до осенней слякоти и холодов накрыть крышу тесом, а потолок утеплить дровяными опилками в смеси всё с той же глиной. В доме от огромной в девять колодцев печи сделалось сухо и тепло. Как же была счастлива наша семья, перейдя из землянки на зиму в капитальный, правда, еще не до конца отделанный дом. Я же не только счастлив, но и горд.
После преждевременной смерти папы нам пришлось продать дом и уехать к родным. Я несколько раз приезжал на наш рудник и всегда приходил к моему дому. Теперь он был иной, обложен кирпичом и крыт шифером. Но все равно я его видел прежним, и он был мой. Я не смел войти во двор, просто стоял и смотрел со стороны, проживал в эти минуты ту жизнь, какую довелось прожить в детстве, отрочестве и юности.
Гольяны
Речка Красноярка, в двух километрах от дома, излюбленное место рыбалок на пескарей и гольянов. Здесь мы купались до дрожи в теле, загорали на пляжном горячем песке до бронзового оттенка.
В июньское половодье, когда шла коренная вода, мы любили уходить вверх по Красноярке. Берега, заросшие тальником, шиповником, красноталом, черемухой и калиной кучерявились буйной зеленью и неохотно пропускали нас в свои джунгли. Но мы упорно пробирались в заветные места. Река стремилась к Иртышу, петляла в низине, выходила из берегов.
День, два бушует разлив, и вместе с водой идет гольян. Упадет паводок, оставит в ямах свои зеркала. А в них – тьма гольянов. Усатые и жирные рыбки чуть больше среднего пальца, шоколадного цвета стоят косяком. Мы, притаившись в зарослях, с горящими от будущего промысла глазами, размышляем, как же зачерпнуть на уху рыбы из этой лужи. В руках самодельные маленькие сачки из марли, а озерушка большая, не просто её охватить. Через неделю здесь будет сухо или останется совсем небольшая лужица, переполненная гольянами. Не пропадать же добру, надо его взять и приготовить сытный обед.
Стоило нам ступить на край лывы, как в ней волной отхлынула от берега туча рыбок, замутив воду. Мы с гомоном и восторгом убираем со дна коряги и начинаем процеживать водоем. Вода теплая, как парное молоко и нам, босякам, приятно ощущать её ласкающее тепло.
Первые заброды приносят хорошие уловы. Крупных гольянов мы складываем в бидончики, а мелочь уносим в реку. Она, присмиревшая, рядом, в десяти шагах. Пусть живут рыбки, не погибать же. Смотришь, подрастут и на следующее лето дадут свой приплод. Прошлым летом мы находили такие ямы с засохшими на солнце рыбками — легкой добычей ворон.
Меня всегда удивляло: почему в такие лужи попадает гольян, и совсем немного пескарей? Потом выяснилось, гольяны в половодье нерестятся и ходят за потоком воды, оставляя на траве икру. Какая-то часть рыбок попадает в ямы. К утру вода в реке падает, и гольяны оказываются отрезанными от русла. Мне всегда было жаль попавших в беду гольянов. И сколько таких ловушек на всем пути нашей Красноярки!? Но она в те годы почему-то не скудела, и мы всегда лавливали на уху, считали себя добытчиками.
Родник и муравейник
Большие муравейники попадались редко. Мы знали их наперечет. Один такой сидел неподалеку от родника, что бил из-под огромной, как дом, скалы. Родниковая яма небольшая, можно перепрыгнуть, но глубокая. Посмотришь в прозрачную воду – видно, как ключ играет слюдяными песчинками. Иные выброшенные на берег блистают на солнце алмазами. Сама скала тоже с прожилками слюды. Если удается отколупнуть ножом пластинку в копейку, а то и в пятак – пристроишь её к глазу, вроде монокля и смотришь на солнце. Оно радугой в глазу переливается, калейдоскопом семицветным. Но долго смотреть эту красоту невозможно, слепит и даже прижигает.
Мы знали, слюда ценный минерал. В наших скалистых горах её добывали старатели. Находили и выкалывали пластины шириной в метр. Мы тоже искали, но самородные запасы успели выбрать до нас, остались для забавы только крохи.
Напьемся студеной, живой воды из родника и бежим дальше по тропинке меж невысокого караганника к зарослям собачника – высокого белоствольного с ажурными круглыми листьями кустарника. Он в эту пору еще красуется мелкими, но густыми ярко-красными цветами. Словно языки бездымного пламени. Отцветет – появятся мелкие ягоды, становясь к осени малиновыми, но горькими каплями. Их много. Жаль не сладкие, а то бы мы их объедали. Этот кустарник – разновидность рододендрона так обидно прозвали из-за бросовых ягод. Сухостойный собачник выламывали для костра. Горел он жарко и бездымно.
Нам он сейчас не интересен. А пробираемся мы к муравейнику, что примостился в зарослях. Каждый из нас выломал из караганника тонкие длинные прутики, очистил от листвы. Теперь мы кладем их на кучу, похожую на старую сопревшую копну сена.
День солнечный, видно, что все двери в муравейнике отворены, а рыжие большие муравьи снуют туда-сюда в неустанной работе. Мы знаем, они очень полезны для леса, уничтожают насекомых питающихся хвоей и листьями деревьев. Они также хорошо рыхлят лесную подстилку. Рабочие муравьи носят корм своим царицам, чтобы они откладывали яйца, упаковывают их в теплый и хорошо дышащий грунт, перемешанный с крохотными перепревшими былинками.
Пристроив свои прутики, мы отступаем от кучи на несколько шагов. Иначе эти великаны вмиг на нас взгромоздятся и вонзят в наше загорелое и обнаженное тело свои клещи. Не так уж и больно, если один-другой укусит, но зачем? Придется стряхивать муравьев, многих побьешь. У нас цель другая – попробовать муравьиной кислоты.
Несколько минут мы стоим и смотрим, как наши прутики облепили муравьи и кусают инородное тело, упавшее на их дом. Они даже стремятся сбросить прутики, шевелят, но сил не хватает. Подождав с минуту, мы осторожно стряхиваем муравьев с прутиков и, отбежав в сторону, обсасываем стебли. Они кислые. Щиплет губы и язык. Мы морщимся, потом кладем прутики снова, кто хочет. Мне хватает одной палочки. Не стоит злоупотреблять щедростью.
Лук-вшивик
Мы любили лазать по скалам. Они то там, то здесь выпирали из земли серыми плитами, словно прислоненные гигантские ладони. В щелях земля. Иногда эти щели узкие, иногда широкие. Здесь-то и растет лук-вшивик. Никто из нас не знал, почему именно – вшивик. Наверное, потому так прозвали, что он мелкий и невысокий, но густой, как щетка, перо круглое, остренькое. Маленькую собачку у нас тоже называли вшивиком.
Рвешь лук двумя пальцами и – в рот. Он сочный и не горький, на вкус приятный. Если в кармане кусочек хлеба, и вовсе хорошо. Закусишь прилично.
Тут же примостилась репа. Это мы так называем. На самом деле это кактус неизвестного нам названия. Растет на лишайниках, в узких расщелинах, где и земли-то крохи. А вот хватает репе влаги дождевой и той, что хранят лишайники.
Репа на звезду похожа с множеством загнутых внутрь и чуть-чуть колючих мясистых листьев. Выберешь покрупнее, оторвешь от лишайника, обдуешь пыль, и выедаешь сочную сердцевину. Она немного кисловатая, хрустит на зубах, словно перезрелый огурец.
И что интересно, придешь в следующее лето на это же место, вшивик с репой разрослись. И снова лакомишься этим даром.
Под этой же скалой, где хорошо держится влага, мы находим другой лук – слезун. Головка у него белая, сочная, даже сластит. Листья трехпалые, широкие. Его много. Собираем и несем домой. С солью и краюхой хлеба, отварной картошкой, вовсе хорош.
Но самым любимым лакомством у нас были саранки. Их здесь называли кандык. Цветок – бутон-красавец. И молочный с заревыми прожилками на лепестках, и янтарный, опушенный черной бахромой, и золотистый. Кандык любит простор и солнцепек на южных склонах сопок, а то и на макушке. Земля здесь твердая, каменистая. На иной полянке его – море. Смотришь, и дух захватывает.
Нам жаль трогать эту красоту, но мы знаем, что головка саранки сочная и сладкая, с ароматом меда. А мы в те послевоенные годы, как говорится, слаще морковки ничего не едали. Мы копаем кандык ножами. Луковица сидит глубоко, порой меж мелкими камешками, и добыть лакомство не просто. Потому, видно, он уцелел от мальчишеских набегов. Его и сейчас много на сопках моего детства.
Картошка с укропом
Однажды в конце июля усталый и голодный я вернулся с рыбалки. Открыл дверь, на меня тут же пахнуло отваром молодой картошки. Мама с сестрёнкой Валей её подкапывали, не вырывая куст, чтобы оставшаяся мелочь доросла к осени.
– О! – восклицаю я, ставлю бидон с уловом на пол и, не чуя запаха свежего укропа, стремглав бегу в огород, а вслед летит мамин голос:
– Учуял свеженькую, дуй за укропом и луком.
Я находил на грядках молодой укроп, срезал своим складнем, стараясь не испачкать в земле. Набирал полную горсть, потом брал лук. Перо вымахало длинное, толстое, сочное. И бежал в дом. А там мама уже снимала с плиты кастрюлю, сливала с картошки воду, ставила на лавку. Принимала у меня укроп, обмывала его в ковше, мелко крошила на доске. Затем в парующую картошку клала кусочки маргарина, они быстро таяли. Через минуту ссыпала в картошку весь укроп, накрывала кастрюлю крышкой и встряхивала её несколько раз, перемешивая.
Я с восторгом и нетерпением смотрел на священные действия мамы, садился за стол напротив распахнутого окна затянутого марлей от мошкары и мух, говорил:
– Давай!
Мама ставила кастрюлю на стол. Она всё ещё паровала. Через струйки пара я видел огород, грядки, картошку в цвете. Мама насыпала через край кастрюли в мою глубокую тарелку рассыпчатую, разомлевшую картошку, облепленную укропом. Я с жадностью принимался за еду, так же как и мои сестрёнки, сидевшие справа от меня.
Зеленый лук мы любили есть вприкуску. Свернешь перо калачиком, сожмешь для удобства и кусаешь. Он сразу же делится на мелкие частицы.
–Оголодал, сердешный, на этой рыбалке, не торопись, прожевывай ладом, – одергивала меня мама от быстрой обжигающей трапезы.
Я с набитым ртом мычал и кивал головой. Мама ставила под левую руку стакан с зеленым чаем, заправленный кипяченым молоком, чтоб запивать и не подавиться. Я улыбался маме, она в ответ гладила меня по голове и спрашивала:
– Нарыбачил рыбы-то?
– А как же! На уху и жарёху! – отвечал горделиво, торопливо жуя рассыпчатую картошку с укропом.
Потом уже взрослым, я не пропускал ни одного лета, чтобы вот так не поесть первую молодую картошку с укропом, сдобренную свежим коровьим маслом, с луком пером и черной краюхой хлеба. Это был целый ритуал. Я всякий раз вспоминал ту мамину готовку. Признаться, лучше которой никогда ничего не было. И ещё я вспоминал стол у распахнутого окошка, грядки с овощами и цветущую картошку.
Тогда я не понимал глубокого смысла этой красочной картины. Сейчас эта глубина осознана: она кормящая! И я восклицаю – Родина ты моя!