Ксаверий Прушинский
Ксаверий Прушинский(1907-1950) – польский публицист и прозаик, представитель так называемой литературы факта. Родился на исторической Волыни – в селе Волица-Керекешина возле города Староконстантинов(ныне-Хмельницкая область в Украине), где род Прушинских владел поместьями с ХVI века. Был репортёром на гражданской войне в Испании, во время Второй мировой — пресс-атташе польского посольства в Москве и Куйбышеве, дипломат польского правительства, находящегося в эмиграции. Ксаверий Прушинский – участник боевых действий в Норвегии(1940) и Франции(1944). После войны – дипломат в Голландии. Погиб при загадочных обстоятельствах на территории Западной Германии.
Как давний приятель волынского князя Януша Радзивилла Ксаверий Прушинский бывал в Олыке. Так на документальной основе родился рассказ «Парашютный витраж», до сих пор ещё неизвестный русскоязычному читателю.
В 1986 году Польский ПЕН-клуб учредил литературную премию имени Ксаверия Прушинского.
Оригинал рассказа «Парашютный витраж» находится по адресу:
http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1229&Itemid=25
ПАРАШЮТНЫЙ ВИТРАЖ
Янек как художник имел идеальные условия. Ведь его старенький отец – известный органист в той самой славной радзивилловской Олыке. Вы никогда в ней не были? Значит, не знаете, что сонная Олыка – это скверное, грязное еврейское местечко на Волыни, от которого до ближайшей железнодорожной станции шесть километров. Но зато это местечко имеет пышный замок; он мощнее того, что в самом Несвиже, и даже не уступает королевскому замку в Варшаве. Вблизи олыкского замка стоит вычурная барокковая колегиата[1] с массивными ангелами на каждом карнизе, бискупами[2] на каменных надгробиях и двумя амвонами внутри. Для богослужений ксёндзы могли выбирать — правый или левый. Как правило, пользовались левым амвоном, поскольку над правым протекал потолок.
Пышная колегиата, как и относящиеся к ней прелат, каноники, органисты и прислуга, издавна подвергалась двойной опеке – костёльной и светской. Костёльной был бискуп из Луцка, а светской – олыкский князь. Он же — ординат Олыки, тринадцатый по счету[3].
Итак, власть костёльная и власть светская вознамерились обеспечить обучение художника – одного из сыновей колегиатского органиста. Бискуп из своей кассы выделил немного денег, князь подписал соответствующий чек – и Янек поехал учиться в Академии Изящных искусств. Бискуп и князь – выглядело внушительно, но в денежном эквиваленте этого оказалось явно недостаточно. К тому же, сразу после отъезда Янека стало известно, что от него забеременела дочь коменданта олыкского полицейского участка. В Олыке люди – селюки, которые служат и на полицейском участке. Поэтому, когда эта потаскуха ходила брюхатая, а люди сплетничали, комендант чуть не отправил старого органиста в Берёзу[4]. Узнав о «подвиге» своего протеже, бискуп, не отличающий отъезда в Париж от прогулки в Содом, не захотел оказывать помощь молодому художнику. Не очень помог бискупу и жизненный опыт: выдающиеся итальянские художники тоже детей нагуливали с девушками, которых потом рисовали в образах мадонн. Янек в Париже вышел из-под опеки костёла. От княжеского покровительства он тоже почти что избавился, ведь как раз началась война в Испании. Поэтому вскоре на почту в Олыку начали приходить письма в конвертах с марками не старой Французской республики, а молодой Испанской. Это привело к большому перепугу. Да, говорили об Испании, но религиозные проповедники вспоминали паршивую овцу. Комендант полицейского участка метал громы и молнии, а отец беспутного сына даже заболел. И, видимо, не потому что имел 78 лет и ревматизм, а скорее всего — со стыда. Правда, олыкские евреи, особенно молодежь, начали с симпатией относиться к колегиатскому органисту, но это его не слишком радовало. Письма Янека приходили редко, а вскоре их вообще не стало. Так появился повод для многих новых комментариев.
– Его преследует Божье наказанье ! – осуждали священники.
– Получил большевик за мою обиду! – потешался комендант.
– Герой борьбы с фашизмом! — вздыхали еврейские подростки.
Все это с высоты своей Олыки скептически оценил Радзивилл:
– Тот дурачок всегда какой-то фокус выкинет.
Отношение князя Радзивилла к гражданской войне в Испании было не такое терпимое, как у местечкового олыкского общества. Не изменился князь и тогда, когда пришло известие, что Янек попал в госпиталь.
– Жаль! — неприятно разочаровался комендант.
– Возможно, это его отучит! – предполагали священники.
– Интересно было бы узнать: под Мадридом или под Гвадаррамой? – говорили между собой местные воины-республиканцы, которые уже возвратились домой.
Следующее письмо прояснило эти сомнения. Ни под Мадридом, ни под Гвадаррамой. Просто автомашина, на которой ехал Янек со своими коллегами, столкнулась с другой автомашиной на шоссе в Валенсии.
– Наверное, пьяными были, — предполагали священники.
– Вот к чему приводит несоблюдение правил уличного движения, – сделали вывод на полицейском участке.
– Это совсем не геройство,– разочаровались местные активисты.
И новая местечковая история о первой олыкской жертве на баррикадах Испании как-то растворилась в мартовский непогоде. Понемногу Олыка, как клерикальная, так и революционная, нашла более интересные темы для обсуждения. Только два лица и дальше имели неизменный взгляд относительно Янека. Комендант полицейского участка и князь-ординат. Впрочем, их взгляды были очень разные.
Первый сделал всё возможное, чтобы Янека в соответствии с законодательством Речи Посполитой лишили гражданства и так далее. Второй — очень просто, неожиданно для жителей Олыки, отослал сто злотых на лечение Янека, хотя его пребывание в госпитале уже окончилось.
– Смог ли он увидеть Прадо [5]? — переживал князь.
Да, ведь в Мадриде этот самый лучший музей испанского искусства, где широко представлены Веласкес, Гойя, Мурильйо, Эль Греко. Данный факт как-то остался вне внимания олычан, но дремал в неспокойной памяти князя-ордината, старого путешественника. К тому же — это со стороны князя стало своеобразным оправданием той испанской кампании, к которой присоединился олыкский художник; ведь она вовсе не входила в планы учебы, намеченные олыкской властью — бискупской и княжеской.
Именно тогда в Париже я познакомился с Янеком. Чувствовал он себя уже неплохо; поломанной была левая рука. Это мешало ему, когда садился в автобус. Но он почти не пользовался этим видом транспорта. Жил Янек вблизи одного художественного центра, в семиэтажной «гостинице», не имевшей лифта. Поднимающиеся по лестнице всегда слышали запахи кухни и видели, как из комнат выглядывают постоянно новые засмарканные девки. Полиция здесь появлялась часто, но редко покидала этот дом с пустыми руками. Бискуп, когда б увидел парижское пристанище своего бывшего протеже, наверняка, свою помощь забрал бы назад, если бы не сделал этого раньше.
Чердак дома приспособили для сушки белья и под художественные мастерские. Тогда, летом, там было словно в теплице. Но внутренняя обстановка в помещении, где работал Янек, много рассказала б даже бискупу, поскольку доброволец интернациональных бригад в Испании теперь полностью посвятил себя религиозному искусству. Несколько вульгарных эскизов живописца стали исключениями. Здесь преимущественно были витражи. Не только замыслы витражей, спокойно нарисованные на каких-то картонках, нет – именно витражи. В уголке находились оловянные слитки с зафиксированными нужными образами. В специальные углубления литья Янек вставил стеклянные фрагменты — закрашенные стёкла, такие же, как на витражах в Шартре, Реймсе и еще где-то. Потаскухи и витражи. Существенно. В разное время, когда я пребывал в Париже, Янек имел среди «ассистенток» темнокожую худую вьетнамку, одутловатую испанку, польку из порядочного дома и русскую еврейку. За исключением вьетнамки, это были обыкновенные девушки, которые, в общем, считались ужасными, но кое-кому могли нравиться. Янек задерживал их ненадолго. И натурщицы, в свободные от хозяйственных и сексуальных занятий минуты, служили ему стимулом для создания витражей, на которых были Бог, Пресвятая Дева, ангелы и младенцы.
Слишком тяжело было раскусить Янека, узнать, почему соблазнитель из Олыки, доброволец из-под Гвадаррамы и парижский бабник увлёкся именно узким видом религиозного искусства. Ведь витраж вне витража религиозного для Янека вообще не существовал. Можно сказать, что в жизни для него существовали только безвкусица, халтура, а в искусстве — только святые. С осколков витражей и фрагментов, эскизов и картонок смотрели лики измученные или одухотворённые, смешные или же искажённые страданиями.
Кажется, Янек в Париже привлек внимание даже тех немногочисленных художников, с которыми был мало знакомый, а они относились к нему с завистью. Кто-то из них тогда мне сказал:
– Этот художник, безупречно, талантливый, но его талант деформировался. Похоже, как его старик был церковным сторожем… Или кем-то? В частной жизни он, Янек, развратник, а в искусстве — только святоша. Травма.
Вполне возможно, что психоаналитик смог бы вам рассказать, сколько в этом было правды. Наверное, много. Отношение Янека к женщинам имело все признаки неугасимого огня, какие-то необычные черты эксгибиционизма и испорченности — своеобразный противовес прошлого его воспитания. То, что какой-то конкретный тип религиозного искусства был почти формой, в которую воплощалось его, Янека, творчество, тоже стало удивлением. Витраж, увлекающий Янека, приводил его в средневековье. Кроме разных примитивных книг, он читал исследования по искусству средних веков, когда витражи имели наивысший расцвет. В Шартре Янек прожил несколько недель, а летом 1938 года как-то добрался до Англии и сразу же попутками прибыл в Йорк. Там соборы, как известно, имеют прекрасные средневековые витражи, поэтому молодой художник раньше, чем отъехать, целыми днями запоминал каждую их особенность.
Потом у Янека появилась мастерская побольше – в каком-то заброшенном костёле. Именно тогда он, как говориться, перешел на химию. Ведь его посетила важная мысль: он должен сам, как художники средневековья, отливать свои стекла, обрабатывать их соответствующими красителями, применяя сочетания и контрасты. Новейшая техника, возле которой на стекольных предприятиях художник использует часть своего труда, его возмущала; творцы великих средневековых витражей почти всегда собственноручно красили каждую частичку своих прекрасных узоров. Янек убедился, что только через возвращение к этой практике можно возродить былое неповторимое искусство. Поэтому новая мастерская напоминала ещё и алхимию. Какие-то кислоты, банки, едкие соли, окиси меди, невероятные тигли и печи занимали всё больше и больше места. Девушки, которых неизвестно какая сила тянула в эту мастерскую, как тянет мух на липучку, тоже имели новое занятие. Да, девушки жаловались, что пачкают платья, а растворы разъедают руки, но работали.
Вскоре оказалось, что никакая алхимия не может добыть из стекла того цвета, какой «вытянули» давно умершие мастера нормандских витражей. К чему же всё это? Кому-то хватило б мысли, что всё – именно так и не иначе. Другой потешался бы обнаруженным: много сделал самый большой алхимик – Время, и что именно золото, солнце, влажность, влияние воздуха на протяжении многих веков придавали удивительным витражам нынешний колорит. Но Янек был недоверчивым. Слишком много он узнал о тайнах, которые с собой забрали в могилу зодчие готических соборов и арок в романском стиле. Знал, что очень часто историк искусства обнаруживает тайну приготовления средневековых красок, встречается с запутанностью относительно получения золота из олова. Где остался след этих тайн? Где его искать? Наверное, только в легендах. И таким образом, придя от витражей к алхимии, от химии Янек пришел к легенде. Возможно, именно там он отыщет потерянные средневековые рецепты? Снова искал картины и узоры известных мастеров, прославившихся витражами. Но теперь его интересовали те, кто их творил. А особенно — как? О мастерах, сооружавших костёлы и соборы, известно много легенд; оказалось, что о творцах витражей их существует не меньше. Янек, наверное, знал все легенды. Помню, зимой 1939 года, когда на Париж падала со снегом ранняя ночь и необходимо было сделать маскировочное затемнение, Янек, закрывая свою мастерскую, пояснял :
– Знаешь, как бывает, например, с кровью? А кровь на витраже – цимес [6] . В Испании жил художник каталонец Руиз Пеньярроя. Его витражи не наилучшие, но то, что удивляет в них, это кровь. Поэтому существует легенда, что Руиз Пеньярроя рисовал свои витражи с незакрашенными пятнами, где должна проступить кровь. Его спрашивали: «Дон Руиз, почему ты здесь не изобразил кровь?» Дон Руиз отвечал: » Я нарисовал кровь, но появится она позже».
Нетерпеливые священнослужители упрекали: «Уже прошел год, но витраж остается белым!» Но Дон Руиз говорил: «Подождите». И поскольку длилась война против мавров, Дон Руиз дорисовал свои витражи, взял плащ с крестом, меч, и пошел, чтобы погибнуть. И в тот день, когда Дон Руиз погиб, на белых витражах выступила красная кровь …
– Прекрасная легенда, — сказал я.
Но Янек обиделся:
– Это вовсе не легенда.
– Как? Это не легенда?
– Я думаю, что так и было.
– Как это – было?
– Как это было – мне не известно. Но я знаю: нынче никто не владеет тайной витражей, несмотря на то, что современные достижения в области химии — не те, что были в ХІІІ веке. До сих пор ещё многое остается быть неизвестным. И если может существовать в Неаполе чудо с кровью святого Януария, которая ежегодно бурлит в ампулке, где застыла больше чем тысячу лет назад … и на витражах Руиза есть настоящая кровь.
– А кроме этого, ты слышал что-то похожее?
Нет, Янек ничего подобного нигде не слышал. Именно это и было причиной его сомнений. Ни в Англии, ни во Франции, ни над Рейном, ни в Ломбардии, ни в Провансе нигде не было следов похожей истории. Янек много искал, но ничего нигде не нашёл. И теперь переубеждал не только себя, но и меня:
– Да. Возможно, этого и не было. Но если и не было, то могло случиться…
В то время мы закрывали последнее ателье Янека. Был он, как и мы все, уже в мундире.
После французской кампании он очень поздно добрался до Вогезов, горной восточной части Франции . Для этого ему довелось блуждать лесами и заходить в села, где кроме шампанского вина не было почти ничего, но зато часто появлялись немцы. Потом Янек долго пробыл в Тулузе и еще дольше — в Карпеньи. После этого он немножко застрял в городе Уэска, а затем собрался в Шотландию. Со временем я выехал в Россию, и мы расстались. Когда я возвратился, его уже не было на месте. Но все равно мне стало известным многое. Я узнал, что эмиграция всё больше и больше становилась кораблем, который пересекает море без каких-либо огней и штурмана, словно изолированный от реального мира, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Кораблем, с которого постоянно кто-то падает в чёрную глубину вод. Были такие, что подались в Америку, и весточки о них медленно исчезали, но были также те, кто уже начал работать в Англии. Другие поженились, нажили детей и тоже отходили. Иные копили деньги про запас. И, наконец, были нашедшие путь домой, в родную сторону. Тот путь, «кратчайший». Янек был в одной такой шестёрке, семёрке или даже четвёрке. Как-то он пошёл на какие-то курсы, а вскоре слева на груди у него появился значок.Парашютиста. Потом Янек уже не носил униформы. А чуть позже — исчез.
Не так давно в Шотландии я встретил людей, которые хорошо знали Янека. Это были пожилые шотландские супруги. Наверняка бездетные католики. Мне кажется, именно из-за этого они относились ко мне с симпатией. Их сельское жилище размещалось недалеко известного шотландского города. Супруги имели большой дом; в нём было много каминов и книг. Янек здесь провел несколько недель после какой-то болезни, работая над важным своим произведением. С ним что-то случилось, ибо за девушками уже не бегал, но упорно трудился над витражами. В этом доме есть часовенка, а в часовенке, холодной и сырой, находится произведение Янека — неповторимый витраж.
– Никто не знал, что впереди у него было лишь два неполных года,– подчеркнул хозяин дома. – Парень и вправду имел какой-то талант к углублению в прошлое. Не в средневековье ли?
Да, витраж был неповторимым, но вместе с тем – страшным. Часовенка оказалась тесной для такого витража, поэтому он находился вблизи нас, всюду окружал нас своей необъятностью и просто угнетал. Это было что-то далёкое и высокое. Нет… что-то большее. На витраже, согнутый в муках, в тех, реалистических, испанских, застыл Анджей Бобола[7] — в своей езуитской рясе с узким серпом ореола над головой. По рукам святого мученика стекала живая красная кровь.
Тогда мне что-то вспомнилось.
– This blood, look, this blood… How has he done it? [8]
– Very realistic, indeed [9], – удовлетворённо подтвердил хозяин. — Не так ли? А знает ли пан, что с этим были хлопоты. Ян здесь сам окрашивал в разные цвета стекольца, и только те, где эта кровь, оставил прозрачными, белыми. Всех это удивило. Генерал сделал ему замечание, наши знакомые спрашивали. Говорили, что произведение можно было легко отправить в Глазго. Ян уперся и сказал, что кровь все же когда-то появится. Пан знает, каким он был настойчивым. Он всё-таки вбил себе в голову что-то своё, улыбался странно… А временами очень сердился, и мы боялись: разобьет витраж.
– И… что он на это ответил?
– Что? Kathleen, what did he say?[10] Ах, да! Что он этого не увидит, ибо его тогда уже не будет? Именно так. Это произошло приблизительно год назад. Но в последний раз у нас побывал он позже. О, в такой же полдень, как и вы, Ян пришел с автобуса, ничего не рассказывал, а только попрощался. Здесь, в часовенке, он и молился перед своим витражом. Мы тогда подумали, что это – приблизился его конец. Ян был очень спокоен. И ещё сказал — правда, Кэтлин? – перед самым отъездом, чтобы мы не переживали об этих пустых местах на витраже. Что они закрасятся. Наверняка. И видите?! Хотя они долго не изменялись. Но как-то после обеда, наверное, в марте, была оттепель. Вышли мы с Кэтлин к мостику на прогулку, и она насобирала немало шафранов, только что появившихся из-под снега. Их было столько, что хватило на букеты в столовую, для гостиной и занести в часовенку. Именно тогда, когда мы их ставили на алтаре, моя жена произнесла: «Посмотри, витраж!».
Я посмотрел. Польский святой на витраже был полностью в крови. Как это произошло? Возможно, нужно было ждать весны, первого тепла и сырости, чтобы отозвались красители на стекле? Наверное, в этом есть какая-то химическая тайна. Не знаю. Я не разбираюсь ни в химии, ни в витражах. Но Ян разбирался, поскольку был необычайно уверенный в том, что говорил.
Перевод с польского Сергея ГУПАЛО.
[1] колегиата – костёл, при котором находится собрание каноников.
[2] бискуп – католический епископ.
[3] тринадцатый ординат Олыки – Януш-Францишек Радзивилл(1880-1967).
[4] Береза – город в Брестской области, в междувоенный период известный концентрационным лагерем Береза Картузская, в котором содержали политзаключенных.
[5] музей Прадо – один из самых больших музеев европейского изобразительного искусства, находящийся в Мадриде.
[6] цимес — десертное блюдо еврейськой кухни – сладкое рагу с разными ингредиентами.
[7] Анджей Бобола(1591-1657) – польский католический святой, монах-езуит, пилигрим, который проповедовал на территории белорусского и волынского Полесья.
[8] — Это кровь, смотрите, это кровь… Как он это сделал? (англ.).
[9] — Очень реалистично, действительно( англ.) .
[10] -– Кэтлин, что он сказал?( англ.).
Константы Галчинский
Импресарио и поэт
Извозчику не крикну «стой!» —
всегда мы вместе, братец мой, –
ты в цифрах, я – в проблемах прежних.
Так ездим мы премного лет.
Сейчас зима и белый свет,
в лицо нам дует ветер снежный.
Кем не был ты, мой старый друг, –
глава, редактор, знал: не вдруг
на нас двоих все наши беды.
Летит забавный этот воз
сквозь пыль и ветер, зной, мороз –
мошенник с дураком ведь едут.
Ты все считаешь, я все сплю:
дремоту гонишь ты мою,
чтоб я вспорхнул над сладкой ленью.
Как напишу – откроешь пасть,
что труд мой мало денег даст,
которых ждешь от вдохновенья.
Так едем мы. Мигает век
как лампочка. Морей и рек
не перечесть нам по дороге.
Вдвоем мы, хоть и каждый сам;
я звезды знаю, прочий хлам,
ты – телефоны и пороги.
Тебя смешат мои мечты,
паденьям радуешься ты
и в ярость осенью приходишь.
Надзор твой длится без конца.
Хоть едем мы лицом к лицу,
мы далеки. Совсем не вроде.
Konstanty Gałczyński
Impresario i poeta
Darmo wołać woźnicy «stój!» —
zawsześmy razem, bracie mój —
ty jesteś cyfra, ja – zgryzota.
Jedziemy tak już wiele lat.
Teraz jest zima, biały świat,
wiatr nam śniegowe brody mota.
Jakkolwiek zwiesz się: stary druh,
redaktor, prezes – jest nas dwóch
i zawsze dwóch, i zawsze razem;
toczy się nasz zabawny wóz
przez – skwar i kurz, przez wiatr i mróz,
a w wozie kanciarz i błazen.
Ty wciąż rachujesz, ja wciąż śpię;
ciągniesz za rękaw, budzisz mnie,
żebym pofruwał, żebym tworzył.
A kiedy stworzę, krzywy pysk
mi pokazujesz, żeby zysk
mieć większy z moich dziwactw bożych.
I tak jedziemy. Miga wiek
jak mała lampka, mórz i rzek
nie zliczyć w drodze utrapionej.
I zawsze dwóch, i żaden sam;
ja w gwiazdach wszystkie światła znam,
ty w miastach wszystkie telefony.
Moje porywy śmieszą cię,
moje upadki cieszą cię,
i gorszą furie o jesieni.
Jak szpicel trzymasz przy mnie straż.
Jedziemy. Jedziemy. Twarzą w twarz.
Dalecy. I przyczajeni.
Константы Галчинский
Еврейский ребёнок
Балкон, объятый солнцем и цветами,
Мои глаза намеренно пленил.
Запахло полем, а не городами,-
И – крики птиц, и – всецветенья пыл.
А на балконе вдруг сиянье смело
Вперед прошло с метлою и назад.
Лишь тень одна осталась, что имела,
Как у беды, зелёные глаза.
И эта тень – девчонка, жизнь которой
Не записать в один-единый том.
Ей хорошо . Но в сон приходит горе,
И криком она ночью будит дом.
Еврейское дитя. Цветок в подполье,
Сверчок, забывший песню, чтобы жить
И пережить родителей, освеченых любовью,
Огнем и месяцем. Да, странна связь и нить.
Ты мне как дочь. Куда ж теперь нам деться?
Цветы, миганье звёзд, небес лучи.
Колючка лагерная жжёт мне часто сердце,
И я , как ты, кричу в ночи.
Konstanty Gałczyński
Dziecko żydowskie
Widziałem taki balkon, w kwietniu, w słońcu,
w takim słońcu, że aż się oczy mrużą;
gdy wiatry z pól zbyt pełne woni są;
gdy ptaków i kwiatów jest tak dużo.
Na tym balkonie, kiedy nań blask naszedł
i wszystkie wonie jak miotłą przepłoszył,
jeden posępny cień został jednakże
i miał zielone oczy.
Była to dziewuszka, której dzieje
opisać można by w niejednym tomie.
Jej teraz dobrze jest. Lecz jeszcze się nie śmieje.
I często krzyczy nocą od złych wspomnień.
Żydowskie dziecko. Kwiat, co rósł w sekrecie.
Świerszczyk ukryty w szparze. A rodzice
i stara babka, wszystko padło w getcie,
oświetlone ogniem i księżycem.
Dzisiaj jest dobrze, prawda, moje dziecko?
Kwiaty znów pachną. Gwiazdy znów migocą.
Ale ja także znam kolczasty drut i noc niemiecką
i czasem też krzyczę nocą.
Константы Галчинский
Богоматерь узников
Отнюдь не холодные ветры неслись над «колючкой»,
над лагерем девичьи ленты , казалось, летели,
и буки чёрнели, как ноты для пришлых метелей,
от буков пришла Богоматерь в судьбу невезучих.
На волосы пленному вдруг положила истомой
ладони, чтоб стал он с другими пленёнными стойким.
Просила молиться и в этой звериной помолке,
тогда их она, Богоматерь, навечно запомнит.
Тихонько сказала : « Я знаю все ваши печали,
бессонные ночи и письма, они в никуда ведь.
В букет соберу всё, что издавна сердце вам давит,
Иисусу к стопам положу всё, что в душах кричало.
По-новому каждую боль назовёт Он, воскреснув,
отточит он каждой ещё неизвестные грани,
и станут рубинами, перлами слезы страданий,
кровавые – станут деревьями вечными в песне.
Я знаю: вам больно, я слышу — сердца застучали,
я с вами в снегу под не гибкими ветками вербы,
венец я для тех, кто здесь зубы сжимает и терпит,
я сладким дождём, как цветы, воскрешу вас, печальных.
Пора уходить мне. К тем женщинам, что, обессилев,
мечтают о детях, одеждах. И в лагерной муке
к далёким мужьям за защитой их тянутся руки.
Я в умерших буду рябиной на тихой могиле».
Konstanty Gałczyński
Matka Boska Stalagów
Była już prawie zima, lecz wiatr południowy dmuchał
i pachniał wstążkami dziewcząt. A był bliski drutom
bukowy las, a buki były podobne nutom.
Stamtąd wyszła do jeńca i powiedziała: – Posłuchaj!
Kładę ci dłonie na włosach, by miłosierdzie z odwagą
spleść w sercu twoim, ażebyś – czuły i mocny wytrwał.
Ja jestem spokój twych nocy i walka dnia, i modlitwa,
i długi obłok złocisty – Matka Boska Stalagów.
Znam wasze troski wszystkie i wszystko, co was zasmuca,
listy i noce samotne, i dni beznadziejnie długie,
ja troski wasze jak kwiatki splatam w szumiący bukiet
i składam na stopniach tronu mojego Pana – Jezusa.
Wtedy Pan Jezus powstaje, odkłada na chwilę berło
i każdej trosce najmniejszej nadaje tak śpiewne imię,
że jedna się staje rubinem, szmaragdem inna lub perłą,
a ta najcięższa, najkrwawsza wyrasta w drzewo olbrzymie.
Ja wiem, jak to wszystko boli, więc jestem do końca z wami
blaskiem nad waszą rozpaczą i śladem na śnieżnej bieli,
a jeszcze palmą i wieńcem dla tych, co zęby zacięli
jak deszczem słodkim na kwiaty, spadam na włosy rękami.
Do widzenia. Już idę. Do uwięzionych kobiet.
Ześlę im sny szeleszczące o dzieciach w różowych sukienkach,
o mężach dobrych, o życiu, co dźwięczy jak piękna piosenka.
A tym, co od ran pomarli, jarzębiną zakwitnę na grobie.
Константы Галчинский
Шекспир и хризантемы
В сторону Аравии корабль отчалил,
фейерверки ночью, эхо, боль немая,
твой любовник полон, как всегда, печали,
хризантему белую в руке сжимая.
Ты не верь цветку: предатель твой избранник –
«он речным теченьем занесённый в устье» –
губы и глаза твои его приманят,
но здесь власть не ты, бегущая от грусти.
Здесь игра театра на воде, несчастье,
вот начнётся пьеса славного Шекспира –
ты совсем малютка и совсем как лира –
след его на бреге не сотрёт ненастье.
И не верь ему ты — он Рембо ценитель,
а ты сердцем где-то на уютном пляже;
ты мила, он страшен, неживой он даже —
статуя он только и всех зол хранитель.
Ты не плачь ночами ни одно мгновенье,
ведь любовь – терпенье, а не тина в бухте.
Но когда найдешь ты фрукты-наслажденье,
вспоминай те губы, что сочнее фруктов.
Konstanty Gałczyński
Szekspir i chryzantemy
Kiedy nocą odpływał okręt do Arabii,
od fajerwerków huczną, a od bólu niemą,
długo jeszcze z pokładu twoje oko wabił
lunatyczny kochanek z białą chryzantemą.
Nie wierz temu kwiatowi: kochanek cię zdradza,
«prądem rzek obojętnych niesion w ujścia stronę» —
choć zielone twe oczy i usta czerwone,
jak nad tobą jest jego, nad nim inna władza.
Morze to teatr z wody i na tym teatrze
pójdzie grać swoją sztukę pośród trąb Szekspira —
ty jesteś taka mała, ty jesteś jak lira —
jego śladów na piasku żaden wichr nie zatrze.
Nie wierz mu: on jest wściekłym kochankiem Rimbaudów,
tyś jest sercem zgubionym na plaży pochyłej;
jego oczy są straszne, twoje – tylko miłe —
on to posąg i duma, i klęska narodów.
Nie płacz, przestań, bo przyjdą jeszcze cięższe noce —
wszak miłość jest cierpieniem, nie fraszką jałową.
Dość, kiedy, smakując zamorskie owoce,
usta sobie przypomni, soczystsze nad owoc.
Константы Галчинский
Малое кино
Лишь малые кинозалы
в страданьях, словно скерцо,
cутью и даже стульями
красными, как сердце.
Здесь лампочка без толка
всё сумерки колышет
и тени бегут кривобоко
над удивлённой афишей.
Торговцев стоголосых
видна в освещеньи сноровка,
здесь купишь папиросы,
ириски и шнуровки.
О, начинается вечер,
месяц вытянул руки.
Об этом помните вечно:
кино – лекарство в муках.
Кассирша в эту минуту,
как королева в будке.
Взявши билет, ты входишь
в темень, где смотрят фильм.
Здесь слышно голос дубравный
и пальмовый — полноправный,
половиком бескрайним
катится теплый дым.
Как же тут мило укрыться,
дождь переждать, непогоду,
можно на час затаиться
и оставаться гордым.
И ручейки не в землю,
в сердце текут, поверьте.
В кинотеатре дремлешь,
словно письмо в конверте:
«Назначена ты судьбою!
Но я одинок и не звонок.
Где встретимся мы с тобою?
Твой
плюшевый медвежонок».
Выходишь — как из тумана,
сонливый — как из обмана,
идешь периферией,
гуляешь и мыслишь, право,
что за кино есть лучше,
для многих оно сподручно;
приют это для убогих,
сегодня обиженных Богом.
Посвящение:
автору «Морских повестей»
Станиславу- Марии Салинскому.
Konstanty Gałczyński
Małe kina
Najlepsze to małe kina
w rozterce i w udręce,
z krzesłami wyściełanymi
pluszem czerwonym jak serce.
Na dworze jeszcze widno,
a już się lampa kołysze
i cienie meandrem biegną
nad zwiastującym afiszem.
Chłopcy się drą wniebogłosy
w promieniach sztucznego świata,
sprzedają papierosy,
irysy i sznurowadła.
O, już się wieczór zaczyna!
Księżyc wyciąga ręce.
Najlepsze te małe kina
w rozterce i w udręce.
Kasjerka ma loki spadziste,
króluje w budce złocistej,
więc bierzesz bilet i wchodzisz
w ciemność, gdzie śpiewa film:
szeleszczą gaje kinowe,
nareszcie inne, palmowe,
a po chodniku bezkresnym
snuje się srebrny dym.
Jakże tu miło się wtulić,
deszcz, zawieruchę przeczekać
i nic, i nic nie mówić,
i trwać, i nie uciekać.
Srebrzysta struga płynie
przez umęczone serce
Drzemiesz w tym małym kinie
jak list miłosny w kopercie:
«Ty moje śliczne śliczności!
Znów się do łóżka sam kładę.
Na jakimż spotkam cię moście?
Twój Pluszowy niedźwiadek».
Wychodzisz zatumaniony,
zasnuty, zakiniony,
przez wietrzna peryferie
wędrujesz i myślisz, że
najlepsze te małe kina,
gdzie wszystko się zapomina;
że to gospoda ubogich,
którym dzień spłynął źle.
Dedykacja:
Autorowi «Opowieści morskich»
Stanisławowi Marii Salińskiemu.
Переводы с польского Сергея ГУПАЛО.
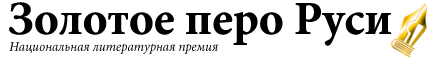





Cпасибо большое за стихи и переводы!
И вам большое спасибо,Тамара, за внимание к моему творчеству!
Извините за милую опечатку, дорогая Елена!
В таких случаях мои ошибки всегда к нечаянной радости.
Ещё раз — большое спасибо за внимание к моему творчеству!
Мои слабые познания в польском не позволяют в полной мере оценить качество переводов. Но Ваши тексты впечатляют. Вы — профессионал, Сергей. Большое искусство сделать «по-русски» то, что задумывалось «по-польски»…
Спасибо за высокую оценку!